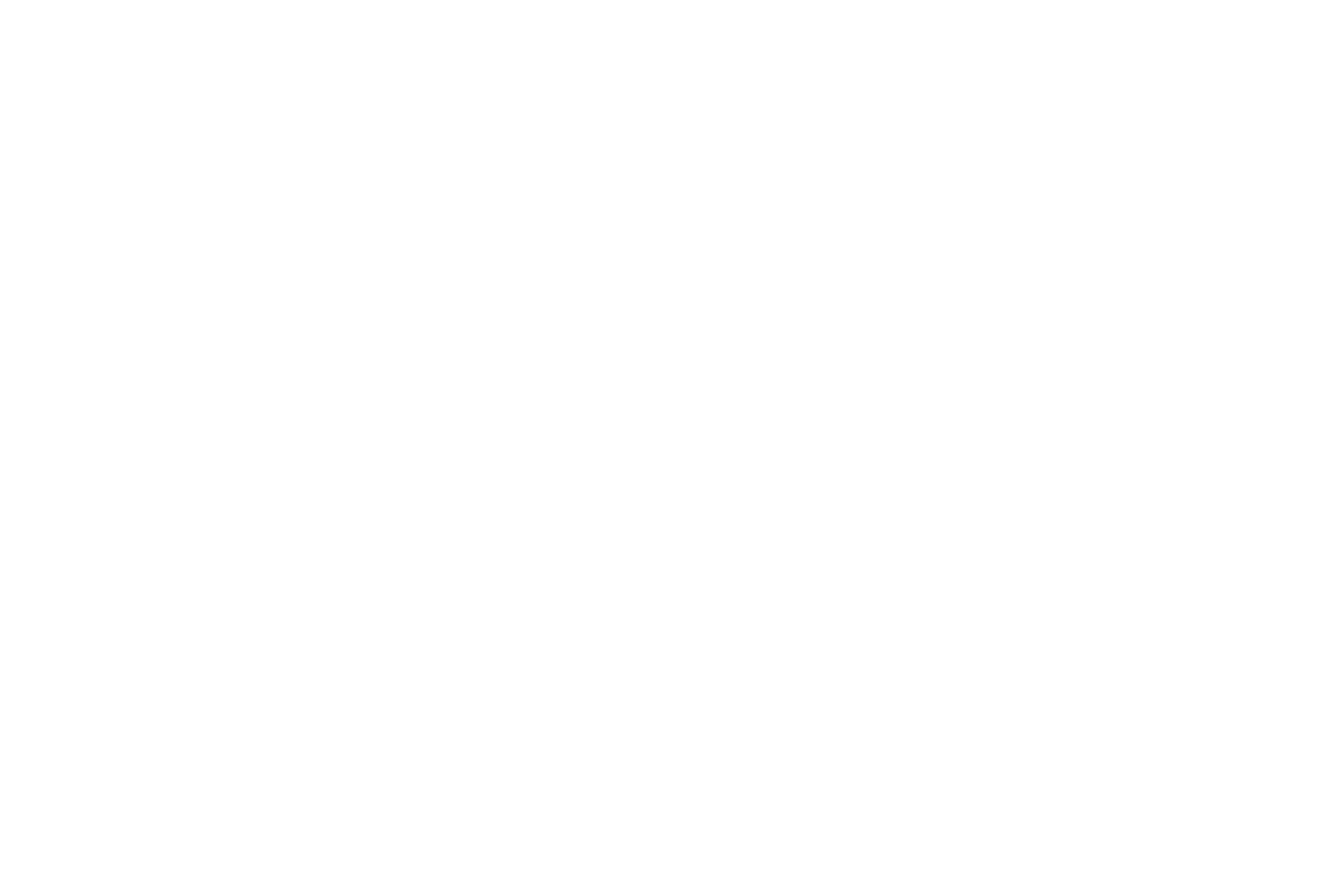
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Без завязки и развития нет кульминации»
Шамиль Идиатуллин — о композиции в литературе, роли чтения в жизни писателя, удаче и тяжелом труде.
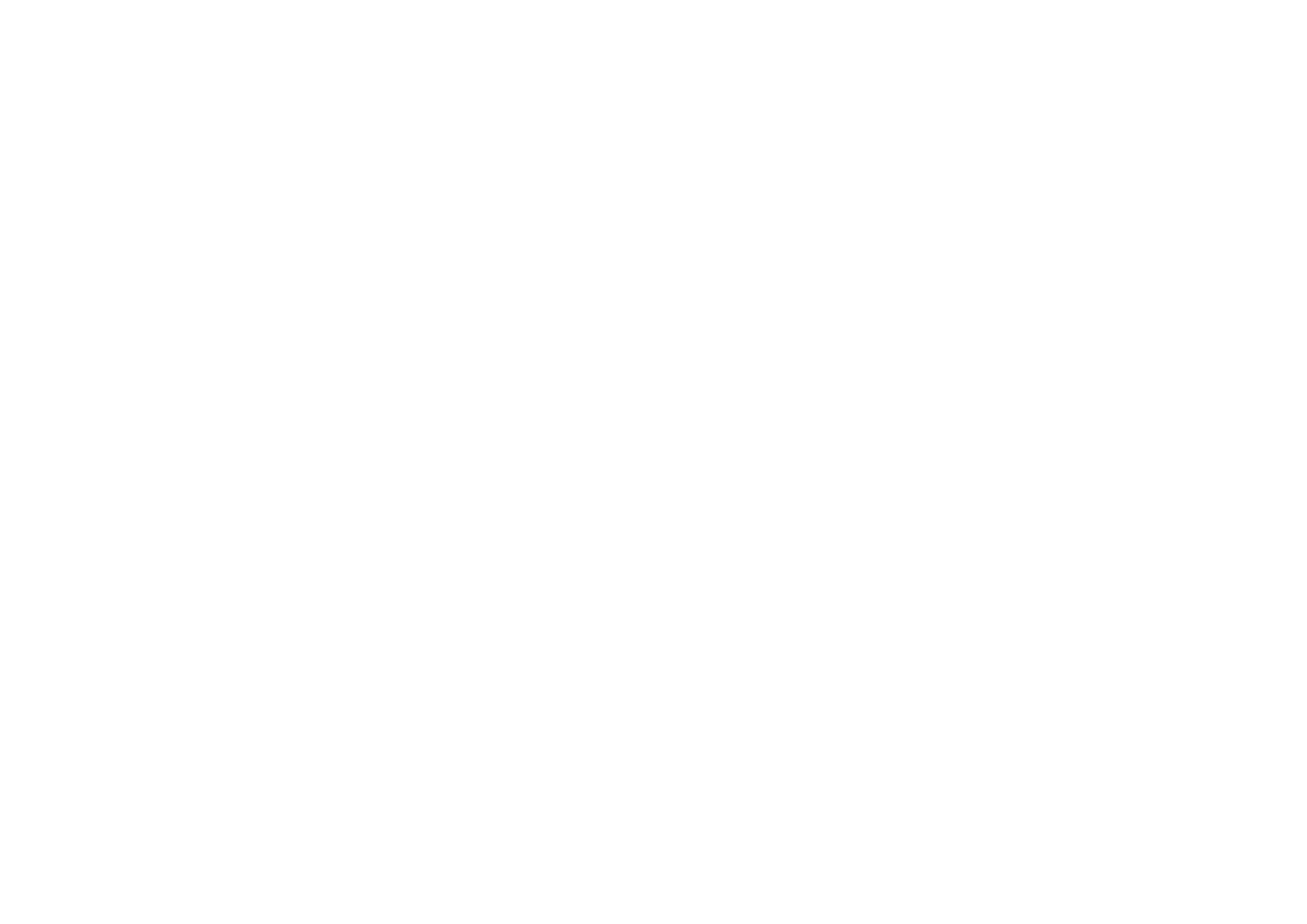
Шамиль Идиатуллин, писатель
— Вы сказали, что в журналистику пошли, потому что вас писательство манило. Почему не поступали в литинститут?
Писательство не то чтобы манило — я просто лет в восемь понял, что в морпехи не пройду по здоровью, потому твердо решил стать писателем. Держался в этом намерении довольно долго: сразу начал роман про пиратов с лазерными пушками, рассказы писал, некоторые даже закончил и отправил куда-то — в «Пионерскую правду», «Юность», «Парус». А годам к четырнадцати понял, что не прохожу и в писатели — не по здоровью, а по сумме недостающих тактико-технических характеристик, от окладистой бороды и до складности текстов. Ну и вообще «буду писателем» — это не столько серьезный жизненный план, сколько такая влажная мечта, которой и делиться-то с окружающими стыдно. А окружающие как раз — ну и родители в первую очередь — советовали попробовать что-нибудь с журналистикой. Попробовал. Повезло — попал в хорошие руки. Стал юнкором, начал писать заметки, завелся, увлекся, — к тому же времена перестроечные были, мечта журналиста. Ну и к 16 годам, когда окончил школу, ни о каком писательстве уже и не думал. Журналист — и точка. А там посмотрим. Так и вышло, к счастью: и журналист, и там посмотрели.
— Вы писатель, время от времени становящийся журналистом или все же журналист, который пишет время от времени книги?
Я точно ненастоящий сварщик, в смысле, писатель — и вообще книги до четвертой вздрагивал, когда меня так называли. Теперь-то вздрагивать поздно, понятно, но все равно детский тот стыд и пугающая радость иногда накрывают. К сожалению, я и журналистом себя назвать не могу, потому что статей почти не пишу. Скоро лет двадцать, как я редактор и даже, прости Господи, медиаменеджер. Поначалу это дело получалось совмещать с нормальной журналистикой, потом был счастливый побег в обозреватели лучшего в мире журнала «Коммерсантъ-Власть», но потом меня поймали и вернули в газетные начальники среднего звена. Поэтому у меня и получается писать книги.
— Все еще чувствуете себя самозванцем в писательстве?
Есть немного. Так-то все самозванцы — кроме подчинившихся какому-нибудь призыву пятилетки и партии с правительством, — но у меня еще и получилось все время проскакивать мимо форматов, правил и размеров. Но сейчас хотя бы научился не оправдываться.
— Маяковский однажды заметил, что «первая работа поэта всегда "свежее" позднейших, так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни». Расскажите о своей первой книге — «Татарский удар». Как пришла идея?
В 25 лет, на пятом году работы в казанской газете, которая сперва называлась «Известия Татарстана», а потом «Время и Деньги», я совершил очередной мощный карьерный скачок — стал из завотделом промышленности замом главреда. Эта должность не позволяла мне писать на постоянной основе, а работа на «Коммерсантъ», — я тогда уже сотрудничал с ним, — тоже была нерегулярной. Не помню уже, чего я боялся — что потеряю квалификацию или что нахлынут горлом и убьют все вот эти слова и смыслы, которые я с детства привык генерить и выплескивать: соответствующая железа расторможена, поди ее останови, опухоль во весь организм будет. В любом случае, я сразу вытребовал себе право на еженедельную колонку, довольно хулиганскую и дерзкую даже по тем временам. Там я каждую неделю изощрялся на актуальные политико-экономические темы, глумился и двигал прогресс в рамках закона и газетного формата, который предполагал все-таки жесткую привязку к факту.
Колонка «7 дней» прожила почти четыре неплохих года (ее читали, цитировали и даже перепечатывали), а к весне 2001 года скончалась естественной смертью. Времена изменились, я подустал, читатель, боюсь, тоже. Но привычка копаться в событийке, пытаться понять, «а дальше-то что?» и писать об этом, осталась. И начала меня душить. Я пытался этот захват не замечать, а потом сообразил, что если писать для себя, то можно не оглядываться на формат, ожидания читателя и даже фактический базис: «в этот гостиница я директор». Югославская и чеченская войны были свежи в памяти, Путин выстраивал новую вертикаль, региональные элиты сопротивлялись, народ не безмолвствовал, почти каждая значимая часть жизни классно отрабатывала самую острую постановку вопроса «А что, если?..» — и эти вопросы не давали мне покоя. А потом да, пришла не идея, а образ — маленький мальчик будит отца, чтобы тот посмотрел, как там вдали, за рекой, полыхают зарницы разбомбленного Казанского Кремля. И я, поворочавшись, встал среди ночи, потихоньку включил компьютер и начал набивать пролог к роману «Rucciя».
— Вы сейчас описали буквально слово в слово то, что Кормак Маккарти рассказывал о романе «Дорога». Процитирую его слова: «Откуда пришла идея? Не имею ни малейшего понятия. Потому что обычно ты не знаешь, откуда "приходят" книги. Ну хорошо, была одна предпосылка. Однажды я остановился с семилетним сыном в маленьком городке. Мы ночевали в мотеле. Я проснулся в 2 часа ночи. Сын спал. А я посмотрел в окно. Было очень тихо. Я слышал только пронесшийся поезд где-то вдали. И тогда я представил, как этого город выглядел бы через 100 лет, если бы случилась большая катастрофа. Картинка просто пришла ко мне. А потом, когда пришло время, я написал книгу». Как вы считаете, там в ноосфере все эти картинки лежат и ждут «своего писателя»? Или писатель все же что-то создает, а не принимает сигналы сверху?
Нет никакого ящика, из которого отец Кабани вытаскивает то мясокрутку, то горючую воду. Ни там в ноосфере, ни где-то еще — в готовом виде, во всяком случае. Есть жизнь, которая сама по себе и миллиард ящиков, и биллион котиков Шредингера. Она умеет складывать пяток банальных стекляшек в обалденную калейдоскопию, — и таких стекляшек в жизни больше пяти, в миллионы раз больше, в каждой, самой бедной на события жизни, каждый миг. Писатели просто умеют — иногда — складывать такую калейдоскопию самостоятельно — и так, чтобы не только красивенько, но и чтобы по мозгам дало.
— То есть писатель — все же не проводник, принимающий уже написанные «где-то там, наверху» тексты, а сам тексты создает?
Сам-сам. Не отмажется. Прецеденты, опять же, были, на чем стоит моя конфессия, но давно — и новых пока не ожидается. Господь создал и разделил миры, землю и небо, на Земле случились голоцен, эволюция, прямоходящий человек и художественная литература, меня родила мама — но ни мама, ни первый прямоходящий человек, ни Создатель не отвечают за то, что я тут понаписал.
Писательство не то чтобы манило — я просто лет в восемь понял, что в морпехи не пройду по здоровью, потому твердо решил стать писателем. Держался в этом намерении довольно долго: сразу начал роман про пиратов с лазерными пушками, рассказы писал, некоторые даже закончил и отправил куда-то — в «Пионерскую правду», «Юность», «Парус». А годам к четырнадцати понял, что не прохожу и в писатели — не по здоровью, а по сумме недостающих тактико-технических характеристик, от окладистой бороды и до складности текстов. Ну и вообще «буду писателем» — это не столько серьезный жизненный план, сколько такая влажная мечта, которой и делиться-то с окружающими стыдно. А окружающие как раз — ну и родители в первую очередь — советовали попробовать что-нибудь с журналистикой. Попробовал. Повезло — попал в хорошие руки. Стал юнкором, начал писать заметки, завелся, увлекся, — к тому же времена перестроечные были, мечта журналиста. Ну и к 16 годам, когда окончил школу, ни о каком писательстве уже и не думал. Журналист — и точка. А там посмотрим. Так и вышло, к счастью: и журналист, и там посмотрели.
— Вы писатель, время от времени становящийся журналистом или все же журналист, который пишет время от времени книги?
Я точно ненастоящий сварщик, в смысле, писатель — и вообще книги до четвертой вздрагивал, когда меня так называли. Теперь-то вздрагивать поздно, понятно, но все равно детский тот стыд и пугающая радость иногда накрывают. К сожалению, я и журналистом себя назвать не могу, потому что статей почти не пишу. Скоро лет двадцать, как я редактор и даже, прости Господи, медиаменеджер. Поначалу это дело получалось совмещать с нормальной журналистикой, потом был счастливый побег в обозреватели лучшего в мире журнала «Коммерсантъ-Власть», но потом меня поймали и вернули в газетные начальники среднего звена. Поэтому у меня и получается писать книги.
— Все еще чувствуете себя самозванцем в писательстве?
Есть немного. Так-то все самозванцы — кроме подчинившихся какому-нибудь призыву пятилетки и партии с правительством, — но у меня еще и получилось все время проскакивать мимо форматов, правил и размеров. Но сейчас хотя бы научился не оправдываться.
— Маяковский однажды заметил, что «первая работа поэта всегда "свежее" позднейших, так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни». Расскажите о своей первой книге — «Татарский удар». Как пришла идея?
В 25 лет, на пятом году работы в казанской газете, которая сперва называлась «Известия Татарстана», а потом «Время и Деньги», я совершил очередной мощный карьерный скачок — стал из завотделом промышленности замом главреда. Эта должность не позволяла мне писать на постоянной основе, а работа на «Коммерсантъ», — я тогда уже сотрудничал с ним, — тоже была нерегулярной. Не помню уже, чего я боялся — что потеряю квалификацию или что нахлынут горлом и убьют все вот эти слова и смыслы, которые я с детства привык генерить и выплескивать: соответствующая железа расторможена, поди ее останови, опухоль во весь организм будет. В любом случае, я сразу вытребовал себе право на еженедельную колонку, довольно хулиганскую и дерзкую даже по тем временам. Там я каждую неделю изощрялся на актуальные политико-экономические темы, глумился и двигал прогресс в рамках закона и газетного формата, который предполагал все-таки жесткую привязку к факту.
Колонка «7 дней» прожила почти четыре неплохих года (ее читали, цитировали и даже перепечатывали), а к весне 2001 года скончалась естественной смертью. Времена изменились, я подустал, читатель, боюсь, тоже. Но привычка копаться в событийке, пытаться понять, «а дальше-то что?» и писать об этом, осталась. И начала меня душить. Я пытался этот захват не замечать, а потом сообразил, что если писать для себя, то можно не оглядываться на формат, ожидания читателя и даже фактический базис: «в этот гостиница я директор». Югославская и чеченская войны были свежи в памяти, Путин выстраивал новую вертикаль, региональные элиты сопротивлялись, народ не безмолвствовал, почти каждая значимая часть жизни классно отрабатывала самую острую постановку вопроса «А что, если?..» — и эти вопросы не давали мне покоя. А потом да, пришла не идея, а образ — маленький мальчик будит отца, чтобы тот посмотрел, как там вдали, за рекой, полыхают зарницы разбомбленного Казанского Кремля. И я, поворочавшись, встал среди ночи, потихоньку включил компьютер и начал набивать пролог к роману «Rucciя».
— Вы сейчас описали буквально слово в слово то, что Кормак Маккарти рассказывал о романе «Дорога». Процитирую его слова: «Откуда пришла идея? Не имею ни малейшего понятия. Потому что обычно ты не знаешь, откуда "приходят" книги. Ну хорошо, была одна предпосылка. Однажды я остановился с семилетним сыном в маленьком городке. Мы ночевали в мотеле. Я проснулся в 2 часа ночи. Сын спал. А я посмотрел в окно. Было очень тихо. Я слышал только пронесшийся поезд где-то вдали. И тогда я представил, как этого город выглядел бы через 100 лет, если бы случилась большая катастрофа. Картинка просто пришла ко мне. А потом, когда пришло время, я написал книгу». Как вы считаете, там в ноосфере все эти картинки лежат и ждут «своего писателя»? Или писатель все же что-то создает, а не принимает сигналы сверху?
Нет никакого ящика, из которого отец Кабани вытаскивает то мясокрутку, то горючую воду. Ни там в ноосфере, ни где-то еще — в готовом виде, во всяком случае. Есть жизнь, которая сама по себе и миллиард ящиков, и биллион котиков Шредингера. Она умеет складывать пяток банальных стекляшек в обалденную калейдоскопию, — и таких стекляшек в жизни больше пяти, в миллионы раз больше, в каждой, самой бедной на события жизни, каждый миг. Писатели просто умеют — иногда — складывать такую калейдоскопию самостоятельно — и так, чтобы не только красивенько, но и чтобы по мозгам дало.
— То есть писатель — все же не проводник, принимающий уже написанные «где-то там, наверху» тексты, а сам тексты создает?
Сам-сам. Не отмажется. Прецеденты, опять же, были, на чем стоит моя конфессия, но давно — и новых пока не ожидается. Господь создал и разделил миры, землю и небо, на Земле случились голоцен, эволюция, прямоходящий человек и художественная литература, меня родила мама — но ни мама, ни первый прямоходящий человек, ни Создатель не отвечают за то, что я тут понаписал.
Нет никакого ящика, из которого отец Кабани вытаскивает то мясокрутку, то горючую воду. Ни в ноосфере, ни где-то еще — в готовом виде, во всяком случае
— Ваш литературный дебют состоялся в 33 года. Какие чувства вы испытали, когда взяли в руку книгу, пришедшую из типографии?
Счастье, конечно. Я долго не верил, что допишу книжку. Все время что-то мешало: я два раза поменял работу, переехал в Москву, упал в совершенно непривычный режим офисной работы с 10 утра до 12 ночи, два месяца жил без семьи, потом перевез ее, детей надо устраивать в школу-садик, мебель покупать, ну и так далее. Когда справлялся с рабочими и бытовыми проблемами, заедало суеверие: только придумаю сцену бомбежки Белого дома, случается 11 сентября — откладываю книгу, ну ее на фиг. И так всю дорогу. Ну и когда уже дописал, понял, что у книги, которая кончается словами «Потому что никто никогда не убивает детей»; шансов быть опубликованной после Беслана немного. И когда книжка все-таки была принята, была напечатана и приехала ко мне первыми авторскими, еще за несколько недель до начала продаж — это было химически чистое счастье.
— Почему не бросили? Как удалось дойти до финала, дописать?
— Мне запомнилось, что я писал «Rucciю» пять лет — но это ошибка памяти, оказывается: сейчас посчитал, все-таки три, с весны 2001 по весну 2004. Но могло быть и пять, и десять, и вся жизнь — кабы я в феврале, кажется, 2004 года не увидел новость о том, что 1 апреля завершается прием рукописей на конкурс остросюжетной прозы. Это шанс, понял я. Не смутившись, что за месяц придется дописать кусок, на который у меня уходил год. Собрался, дописал — ночами, в пене и лихорадке, — выправил, отправил: бегал по всему району в поисках работающей вечером почты, потому что дома интернета еще не было. Пролетел, понятно — даже и не помню, кто победил в том конкурсе и что ему за это было. В любом случае, у меня на руках оказался готовый текст романа на 18 авторских листов, который можно предлагать издателю.
— И как вы, пролетев на конкурсе, стали издающимся писателем?
Мне страшно повезло. То есть понятно, что первая попытка, в рамках которой я предложил книгу по очереди трем, что ли, крупнейшим издательствам, не кончилась ничем — по-моему, они просто не ответили. Вторая — тоже: летом я отправил письма всем издательствам, книги которых у меня были. Парочка откликнулась лаконичным «Триллеры не печатаем» (явно не заглядывая в текст), остальные проигнорировали. Тут я уже раскидал рукопись веером почти по всем издателям, контакты которых сумел найти — по-моему, уже осень наступила. Ответил один: «Здравствуйте, Шамиль! Меня зовут Юрий Гаврюченков, я работаю редактором в издательстве "Крылов". С удовольствием прочел Ваш роман, буду рекомендовать к печати. За первую книгу мы платим автору столько-то, за вторую — столько-то. Если Вас устраивают эти условия, то, после одобрения романа главным редактором, мы подпишем договор».
Меня, само собой, устроили бы примерно любые условия. Книга вышла через три месяца.
Это было не только счастье, но и огромная удача. «Rucciя» не слишком вписывалась в тогдашнюю линейку «Крылова», делавшего ставку на брутальные боевики с детективным сюжетом. Уже через год издательство поймало и отчасти сформировало новый тренд — реваншистского боевика, герои которого отважно бьются с американскими оккупантами и который стал базой для небольшой секты с черными числами на красных аватарках (число указывало, каким по счету пользователь вписался в отряд храбрецов, готовых умереть, но убить хотя бы одного оккупанта). Соответственно, уже через пару лет моя книга выглядела бы заумным косплеем книжек Беркема аль-Атоми и Федора Березина, позднее представить себе выход книги про войну Казани с Москвой, а потом с Вашингтоном, было бы почти невозможно. А так — повезло. Издательство лишь чуть подстраховалось, поставив серию «Современная фантастическая авантюра» (с тех пор меня не по делу обзывают фантастом) и сменило название — повыбирав между «Русским разменом» и «Татарским ударом», остановилось на последнем. Все к лучшему, в общем.
— Вы много читали с детства. Я не очень люблю эту формулировку, но тем не менее: сможете ли вы назвать какие-то имена, которые повлияли на вас больше других, как на писателя? Помимо Крапивина, о котором вы рассказывали в интервью.
Книги Крапивина владели и более-менее управляли мною лет с восьми, лет в одиннадцать добавился Виктор Конецкий, в 15 я нашел наконец Стругацких, книг которых в челнинских библиотеках просто не было: фонды формировались во второй половине 70-х — начале 80-х, когда лучших советских фантастов почти не издавали. Вот эти три писателя и четыре человека сделали меня как читателя и, очевидно, как писателя тоже. Понятно, что написанного ими на одного меня не хватало, так что я читал массу всего — всю фантастику и детективы, до которых мог дотянуться, почти весь детлит, включая журнальные публикации в «Пионере», «Костре» и «Уральском следопыте», а потом в «Юности» и «Авроре», и огромный случайный набор взрослых книг, от Пикуля с «Вечным зовом» и «Землей, до востребования» до Мопассана и Джона Гарднера с Кортасаром.
Но вот так, чтобы перепахало и жило со мной, как главная троица, — это очень немногие: точно Гайдар, Томин, с оговорками Линдгрен и Булычев, заходеровские переводы «Винни-Пуха», «Алисы» и «Мэри Поппинс». Для протокола могу добавить, что из русской классики особенно люблю прозу Пушкина и развесистый глум Салтыкова-Щедрина. Из западной всем неистово рекомендую Шекспира, а также Ивлина Во и Фридриха Дюрренматта, из восточной — плутовские арабские повести типа «Жизни и приключений Али Зибака». Любимые детективщики — Чандлер, Хэммет, Стаут, Жапризо, Несбё. Любимые современные фантасты — Нил Стивенсон и Майкл Суэнвик. Отдельной строкой идет Стивен Кинг — при том, что хоррор я вообще-то недолюбливаю, и очень рад, что первой прочитал не «Оно», допустим, а «Мертвую зону». Мощнейший автор исторических романов и повестей — Морис Симашко.
— И отдельно я хочу спросить о книге «Момент истины» Богомолова. Почему книга стала любимой? И расшифруйте, пожалуйста, формулировку «воспитал в себе умение читать».
Нормальный пацан книжки глотает, а те, что не лезут в ментальное горло, отбрасывает. Я был не слишком нормальный, много лежал в больницах, где чтение — единственный досуг, а книг мало, приходится читать и перечитывать, что есть. Этот навык пригодился с Богомоловым. Потому что «Момент истины» — довольно тяжелый и формально недружелюбный текст: слишком много героев и малохудожественных вставок, в том числе скучных документов, слишком тягучая интрига, слишком много рассуждений, топтаний на месте, выпуклых противокозелков и неразжеванных объяснениями кусков какой-то чужой подлинности. А потом — р-раз, и взрыв лютой невероятной крутизны — стрельба по-македонски, экстренное потрошение, «Бабулька приехала!» Недельная пайка эндорфина за раз. Я это дело сразу понял, начал перечитывать только последнюю часть — и постепенно от обиды «А вот нафига прятать такое счастье на трехсотой странице?» вырос до серьезного поиска ответа на тот же вопрос. И нашел — ну, он базовый: без завязки и развития нет кульминации, не погрешишь — не покаешься, третья шоколадная конфета подряд вкуса уже не имеет и так далее. Но для читающего подростка такое открытие, тем более сделанное самостоятельно, было заметным достижением. Отчасти с этим, наверное, связана любовь к книге, которая помогла с открытием — но в основном все-таки любовь объясняется тем, что «Момент истины» грандиозен без дураков.
Счастье, конечно. Я долго не верил, что допишу книжку. Все время что-то мешало: я два раза поменял работу, переехал в Москву, упал в совершенно непривычный режим офисной работы с 10 утра до 12 ночи, два месяца жил без семьи, потом перевез ее, детей надо устраивать в школу-садик, мебель покупать, ну и так далее. Когда справлялся с рабочими и бытовыми проблемами, заедало суеверие: только придумаю сцену бомбежки Белого дома, случается 11 сентября — откладываю книгу, ну ее на фиг. И так всю дорогу. Ну и когда уже дописал, понял, что у книги, которая кончается словами «Потому что никто никогда не убивает детей»; шансов быть опубликованной после Беслана немного. И когда книжка все-таки была принята, была напечатана и приехала ко мне первыми авторскими, еще за несколько недель до начала продаж — это было химически чистое счастье.
— Почему не бросили? Как удалось дойти до финала, дописать?
— Мне запомнилось, что я писал «Rucciю» пять лет — но это ошибка памяти, оказывается: сейчас посчитал, все-таки три, с весны 2001 по весну 2004. Но могло быть и пять, и десять, и вся жизнь — кабы я в феврале, кажется, 2004 года не увидел новость о том, что 1 апреля завершается прием рукописей на конкурс остросюжетной прозы. Это шанс, понял я. Не смутившись, что за месяц придется дописать кусок, на который у меня уходил год. Собрался, дописал — ночами, в пене и лихорадке, — выправил, отправил: бегал по всему району в поисках работающей вечером почты, потому что дома интернета еще не было. Пролетел, понятно — даже и не помню, кто победил в том конкурсе и что ему за это было. В любом случае, у меня на руках оказался готовый текст романа на 18 авторских листов, который можно предлагать издателю.
— И как вы, пролетев на конкурсе, стали издающимся писателем?
Мне страшно повезло. То есть понятно, что первая попытка, в рамках которой я предложил книгу по очереди трем, что ли, крупнейшим издательствам, не кончилась ничем — по-моему, они просто не ответили. Вторая — тоже: летом я отправил письма всем издательствам, книги которых у меня были. Парочка откликнулась лаконичным «Триллеры не печатаем» (явно не заглядывая в текст), остальные проигнорировали. Тут я уже раскидал рукопись веером почти по всем издателям, контакты которых сумел найти — по-моему, уже осень наступила. Ответил один: «Здравствуйте, Шамиль! Меня зовут Юрий Гаврюченков, я работаю редактором в издательстве "Крылов". С удовольствием прочел Ваш роман, буду рекомендовать к печати. За первую книгу мы платим автору столько-то, за вторую — столько-то. Если Вас устраивают эти условия, то, после одобрения романа главным редактором, мы подпишем договор».
Меня, само собой, устроили бы примерно любые условия. Книга вышла через три месяца.
Это было не только счастье, но и огромная удача. «Rucciя» не слишком вписывалась в тогдашнюю линейку «Крылова», делавшего ставку на брутальные боевики с детективным сюжетом. Уже через год издательство поймало и отчасти сформировало новый тренд — реваншистского боевика, герои которого отважно бьются с американскими оккупантами и который стал базой для небольшой секты с черными числами на красных аватарках (число указывало, каким по счету пользователь вписался в отряд храбрецов, готовых умереть, но убить хотя бы одного оккупанта). Соответственно, уже через пару лет моя книга выглядела бы заумным косплеем книжек Беркема аль-Атоми и Федора Березина, позднее представить себе выход книги про войну Казани с Москвой, а потом с Вашингтоном, было бы почти невозможно. А так — повезло. Издательство лишь чуть подстраховалось, поставив серию «Современная фантастическая авантюра» (с тех пор меня не по делу обзывают фантастом) и сменило название — повыбирав между «Русским разменом» и «Татарским ударом», остановилось на последнем. Все к лучшему, в общем.
— Вы много читали с детства. Я не очень люблю эту формулировку, но тем не менее: сможете ли вы назвать какие-то имена, которые повлияли на вас больше других, как на писателя? Помимо Крапивина, о котором вы рассказывали в интервью.
Книги Крапивина владели и более-менее управляли мною лет с восьми, лет в одиннадцать добавился Виктор Конецкий, в 15 я нашел наконец Стругацких, книг которых в челнинских библиотеках просто не было: фонды формировались во второй половине 70-х — начале 80-х, когда лучших советских фантастов почти не издавали. Вот эти три писателя и четыре человека сделали меня как читателя и, очевидно, как писателя тоже. Понятно, что написанного ими на одного меня не хватало, так что я читал массу всего — всю фантастику и детективы, до которых мог дотянуться, почти весь детлит, включая журнальные публикации в «Пионере», «Костре» и «Уральском следопыте», а потом в «Юности» и «Авроре», и огромный случайный набор взрослых книг, от Пикуля с «Вечным зовом» и «Землей, до востребования» до Мопассана и Джона Гарднера с Кортасаром.
Но вот так, чтобы перепахало и жило со мной, как главная троица, — это очень немногие: точно Гайдар, Томин, с оговорками Линдгрен и Булычев, заходеровские переводы «Винни-Пуха», «Алисы» и «Мэри Поппинс». Для протокола могу добавить, что из русской классики особенно люблю прозу Пушкина и развесистый глум Салтыкова-Щедрина. Из западной всем неистово рекомендую Шекспира, а также Ивлина Во и Фридриха Дюрренматта, из восточной — плутовские арабские повести типа «Жизни и приключений Али Зибака». Любимые детективщики — Чандлер, Хэммет, Стаут, Жапризо, Несбё. Любимые современные фантасты — Нил Стивенсон и Майкл Суэнвик. Отдельной строкой идет Стивен Кинг — при том, что хоррор я вообще-то недолюбливаю, и очень рад, что первой прочитал не «Оно», допустим, а «Мертвую зону». Мощнейший автор исторических романов и повестей — Морис Симашко.
— И отдельно я хочу спросить о книге «Момент истины» Богомолова. Почему книга стала любимой? И расшифруйте, пожалуйста, формулировку «воспитал в себе умение читать».
Нормальный пацан книжки глотает, а те, что не лезут в ментальное горло, отбрасывает. Я был не слишком нормальный, много лежал в больницах, где чтение — единственный досуг, а книг мало, приходится читать и перечитывать, что есть. Этот навык пригодился с Богомоловым. Потому что «Момент истины» — довольно тяжелый и формально недружелюбный текст: слишком много героев и малохудожественных вставок, в том числе скучных документов, слишком тягучая интрига, слишком много рассуждений, топтаний на месте, выпуклых противокозелков и неразжеванных объяснениями кусков какой-то чужой подлинности. А потом — р-раз, и взрыв лютой невероятной крутизны — стрельба по-македонски, экстренное потрошение, «Бабулька приехала!» Недельная пайка эндорфина за раз. Я это дело сразу понял, начал перечитывать только последнюю часть — и постепенно от обиды «А вот нафига прятать такое счастье на трехсотой странице?» вырос до серьезного поиска ответа на тот же вопрос. И нашел — ну, он базовый: без завязки и развития нет кульминации, не погрешишь — не покаешься, третья шоколадная конфета подряд вкуса уже не имеет и так далее. Но для читающего подростка такое открытие, тем более сделанное самостоятельно, было заметным достижением. Отчасти с этим, наверное, связана любовь к книге, которая помогла с открытием — но в основном все-таки любовь объясняется тем, что «Момент истины» грандиозен без дураков.
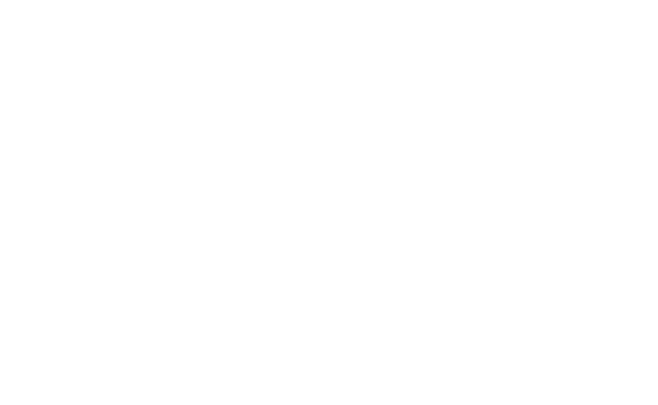
"Город Брежнев". Финалист "Большой книги 2017"
— Кормак Маккарти сказал: «Ужасный факт состоит в том, что все книги сделаны из других книг. Каждый новый роман обязан другим романам, которые уже написаны». Вы согласны с такой формулировкой?
Да, если не считать это объяснение абсолютным. Любая книга и впрямь является холмиком, надстраиваемом на горе из предыдущих книг — всего человечества и этого вот автора. Но не в меньшей степени гора эта складывается и из других пород — детских страхов автора, его вчерашнего сна, смешного диалога в магазине, ссоры с женой, ну и прочего «когда б вы знали, из какого сора». Вообще, любая формулировка с использованием слова «все» и «любой» является ложной (включая эту). Смог бы Лев Николаевич написать «Анну Каренину», которая считается совершенным романом, не будь в его активе еще более знаменитой «Войны и мира»? Наверное, нет. А смогли бы Дарья Донцова или Барбара Картленд написать с 127-го по 174-й романы, не будь у них уже 126 предыдущих? Лучше и не знать, пожалуй.
— Расскажите о своих первых шагах в писательстве. Вы познали отчаяние от того, что ничего не получалось или получилось все сразу и хорошо? Вы долго писали в стол, пока не начало получатся?
Я, к счастью, не слишком много времени убил на ювенилии, а к взрослым опытам в прозе подошел, имея неплохую повествовательную технику — правда, абсолютно газетную. С одной стороны, мне не составляет труда сформулировать и изложить мысль любой степени сложности либо придумать взаимосвязанный массив самых причудливых событий. С другой — именно это тормозит и колодит: мне неловко и стыдно писать как бы в века с той же легкостью необычайной, что и в газету, которая живет, как известно, один день. С этим связана малая часть трудностей: я заставляю себя писать иначе, смотреть на описанную ситуацию с точки выше макушки, проверять тонкости в тридцать пятом по счету источнике, не повторяться — а рука-то набита, тяжко. Но большая часть трудностей связана с тем, что мне не нравится сам процесс отписывания книги, физический и технический. Это долго, это муторно, это лишает покоя, сна, сериалов и общения с семьей. Поэтому я стараюсь отлынивать, пока возможно. А когда уже невозможно, когда идея и сюжет берут за кадык и тащат — стараюсь протащиться отведенным путем предельно быстро. Иногда даже получается.
— «Теперь главное: за свой счет издаваться не надо никогда и никому. Это тупиковый путь, который выгоден только жуликам, разводящим тщеславных новичков. Ни славы, ни денег такое издание не принесет, зато перечеркнет дорогу в нормальное издательство: там автора, заплатившего за выпуск своей книги, считают заведомо несостоятельным, увы». Вы действительно считаете, что самиздат не приведет к успеху? Но как же быть с Яной Вагнер (начинала в ЖЖ, сейчас издается у Шубиной), Глуховского? И т. д.
Вы неправильно поняли. Я веду речь сугубо об издании за свои деньги — это такой отдельный вид дорогого бессмысленного досуга, в рамках которого автор платит от десяти до пятисот тысяч рублей, чтобы ему красиво напечатали его книжку некоторым тиражом, который ляжет на складе или на балконе автора, а потом будет раздарен утомленным знакомым или списан в макулатуру. Если я правильно помню, Яна Вагнер не платила ЖЖ, Роберт Ибатуллин не платил «Самлиб.ру», Дмитрий Глуховский и Энди Вейр не платили собственным сайтам и так далее. Самиздат — отличная и благородная вещь, тем более в наше время. Серьезные издатели нашли и продолжают находить массу достойнейших авторов на сайте Максима Мошкова и даже на «Прозе.ру», и наоборот, есть вполне культовые авторы, которые из принципиальных соображений не собираются издаваться в бумаге — достаточно вспомнить Александра Розова и Анну Коростелеву.
Я с уважением и пониманием отношусь к любому варианту, включая краудфандинг и «печать по запросу» (покупатель электронной книги может заказать и оплатить печать бумажной копии — прим. ред.). Я даже издание за свой счет понять могу, особенно когда деньги просят небольшие, а книжка получается совсем настоящая, — но считаю необходимым предупреждать о его тупиковости. Если с вас просят хотя бы копейку, неважно за что — за оформление ISBN, перевод аннотации на китайский, выкладку книги на лучшее место в федеральной сети, — это развод.
Возможно, ситуацию изменят игроки вроде Ridero, который пытается стать солидной честной площадкой для независимых авторов, а деньги берет за вполне конкретные услуги. Но более массовым и распространенным остается другой подход. Поэтому прошу помнить: если автор платит за доступ к читателям, он совершает самоубийство как автор — а доступа к читателям все равно не получает.
Да, если не считать это объяснение абсолютным. Любая книга и впрямь является холмиком, надстраиваемом на горе из предыдущих книг — всего человечества и этого вот автора. Но не в меньшей степени гора эта складывается и из других пород — детских страхов автора, его вчерашнего сна, смешного диалога в магазине, ссоры с женой, ну и прочего «когда б вы знали, из какого сора». Вообще, любая формулировка с использованием слова «все» и «любой» является ложной (включая эту). Смог бы Лев Николаевич написать «Анну Каренину», которая считается совершенным романом, не будь в его активе еще более знаменитой «Войны и мира»? Наверное, нет. А смогли бы Дарья Донцова или Барбара Картленд написать с 127-го по 174-й романы, не будь у них уже 126 предыдущих? Лучше и не знать, пожалуй.
— Расскажите о своих первых шагах в писательстве. Вы познали отчаяние от того, что ничего не получалось или получилось все сразу и хорошо? Вы долго писали в стол, пока не начало получатся?
Я, к счастью, не слишком много времени убил на ювенилии, а к взрослым опытам в прозе подошел, имея неплохую повествовательную технику — правда, абсолютно газетную. С одной стороны, мне не составляет труда сформулировать и изложить мысль любой степени сложности либо придумать взаимосвязанный массив самых причудливых событий. С другой — именно это тормозит и колодит: мне неловко и стыдно писать как бы в века с той же легкостью необычайной, что и в газету, которая живет, как известно, один день. С этим связана малая часть трудностей: я заставляю себя писать иначе, смотреть на описанную ситуацию с точки выше макушки, проверять тонкости в тридцать пятом по счету источнике, не повторяться — а рука-то набита, тяжко. Но большая часть трудностей связана с тем, что мне не нравится сам процесс отписывания книги, физический и технический. Это долго, это муторно, это лишает покоя, сна, сериалов и общения с семьей. Поэтому я стараюсь отлынивать, пока возможно. А когда уже невозможно, когда идея и сюжет берут за кадык и тащат — стараюсь протащиться отведенным путем предельно быстро. Иногда даже получается.
— «Теперь главное: за свой счет издаваться не надо никогда и никому. Это тупиковый путь, который выгоден только жуликам, разводящим тщеславных новичков. Ни славы, ни денег такое издание не принесет, зато перечеркнет дорогу в нормальное издательство: там автора, заплатившего за выпуск своей книги, считают заведомо несостоятельным, увы». Вы действительно считаете, что самиздат не приведет к успеху? Но как же быть с Яной Вагнер (начинала в ЖЖ, сейчас издается у Шубиной), Глуховского? И т. д.
Вы неправильно поняли. Я веду речь сугубо об издании за свои деньги — это такой отдельный вид дорогого бессмысленного досуга, в рамках которого автор платит от десяти до пятисот тысяч рублей, чтобы ему красиво напечатали его книжку некоторым тиражом, который ляжет на складе или на балконе автора, а потом будет раздарен утомленным знакомым или списан в макулатуру. Если я правильно помню, Яна Вагнер не платила ЖЖ, Роберт Ибатуллин не платил «Самлиб.ру», Дмитрий Глуховский и Энди Вейр не платили собственным сайтам и так далее. Самиздат — отличная и благородная вещь, тем более в наше время. Серьезные издатели нашли и продолжают находить массу достойнейших авторов на сайте Максима Мошкова и даже на «Прозе.ру», и наоборот, есть вполне культовые авторы, которые из принципиальных соображений не собираются издаваться в бумаге — достаточно вспомнить Александра Розова и Анну Коростелеву.
Я с уважением и пониманием отношусь к любому варианту, включая краудфандинг и «печать по запросу» (покупатель электронной книги может заказать и оплатить печать бумажной копии — прим. ред.). Я даже издание за свой счет понять могу, особенно когда деньги просят небольшие, а книжка получается совсем настоящая, — но считаю необходимым предупреждать о его тупиковости. Если с вас просят хотя бы копейку, неважно за что — за оформление ISBN, перевод аннотации на китайский, выкладку книги на лучшее место в федеральной сети, — это развод.
Возможно, ситуацию изменят игроки вроде Ridero, который пытается стать солидной честной площадкой для независимых авторов, а деньги берет за вполне конкретные услуги. Но более массовым и распространенным остается другой подход. Поэтому прошу помнить: если автор платит за доступ к читателям, он совершает самоубийство как автор — а доступа к читателям все равно не получает.
— То есть вы считаете, что лучше тексту «лежать в столе», чем быть опубликованным и замеченным?
Ни в коем случае. Книгу должны читать. Без читателя нет ни книги, ни писателя. Отдельные исключения лишь подтверждают это правило.
— И как же тогда достучаться читателя? Осуществлять ковровые бомбардировки почтовых ящиков «всех издателей, контакты которых удалось найти»?
Да, например. А лучше целевым образом искать выходы на редакторов книг и серий, которые, как вам кажется, хоть немного похожи на вашу. Издатель, с одной стороны, профи, который умеет работать с товаром под названием книга — в отличие от вас и меня. Он вкладывает деньги и в этот товар, и в вас, как в автора. Он не только заинтересован в том, чтобы товар дошел до потребителя и, стало быть, деньги отбились, но и знает, как это делать. В отличие от барыг, издающих книги за счет автора: они берут ваши деньги и на этом теряют интерес к чему бы то ни было. Это нормально и понятно, непонятно, вам-то такая радость зачем. И нормальному издателю постоянно нужны новые продаваемые книги.
Участие в конкурсах — еще один способ обратить на себя внимание издателя. Я в разных качествах имел отношение к четырем солидным конкурсам: «Большой книге», «Книгуру», «Лицею» и конкурсу имени Крапивина. Смею заверить, что в этих конкурсах, во-первых, судейство по итогам может быть спорным и бесящим, но оно всегда честное. Во-вторых, победить в таких конкурсах непросто, но шанс выйти в полуфинал есть всегда, чисто по арифметическим соображениям: каждый год полуфиналы десятка солидных конкурсов собирают — при всех неизбежных пересечениях списков — около сотни текстов. Большей частью это очень сильные тексты — но и вы ведь не слабы, правильно? Пробуйте.
В-третьих, издатели (а также критики и продвинутые читатели) пристально следят за ходом серьезных конкурсов и делают стойку не только на победителей, но и на финалистов и полуфиналистов. Ну и в-четвертых, в победители то и дело выходят мало кому известные авторы или абсолютные новички, и даже обойденный наградами текст может выскочить на пик читательского интереса. Последний пример — великолепный роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»: второй роман уральца в саратовском журнале (как и первый) почти никто не замечал, пока текст не попал в шорт «Большой книги». Книга оказалась еще в нескольких коротких списках, осталась без премий, но была издана в редакции Елены Шубиной, и даже после нескольких допечаток возглавляет топы продаж. И главное — ее читают, она колбасит, из-за нее грызутся. И первый роман Сальникова, который выходит книгой на днях, думаю, ждет похожая судьба.
— Как же найти дорогу к издателю — ваш персональный рецепт?
Мой рецепт примитивен — как сказано выше: веерная рассылка с особым упором на попытки достучаться до тех, кому мои тексты могут показаться симпатичными и близкими. Но срабатывало ведь.
— «Литература без свежей крови киснет и задыхается — это факт. Молодому автору трудно оказаться замеченным на маститом фоне — тоже факт». Как молодому автору заявить о себе?
Участвовать в конкурсах, отправлять тексты в толстые и тонкие журналы, в издательства, выкладывать их на безгонорарные, но респектабельные площадки. Никогда не платить за это.
— Стоит ли начинающему писателю, опубликовавшемуся, скажем, на Ridero (или любой другой площадке), назначать цену за книгу? Или распространяться бесплатно?
Совсем начинающему, думаю, цену за книгу назначать не стоит — он кот в мешке, за такое не платят. Надо собрать и подкормить аудиторию, показать, что ты чего-то стоишь, — и вот тогда уже. Первая доза бесплатно — девиз самых эффективных в маркетинговом смысле сегментов ритейла.
— Вы верите в толстые литературные журналы?
Я верю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его. Толстые журналы я нежно люблю и считаю существенным элементом фундамента, на котором до сих пор держится некоммерческая литература и культура в целом. Живется им все хуже, но если их не станет, мы съедем еще ближе к краю бездны, где весело и не надо думать.
— Вы считаете правильным ограничение возраста участников литературной премии «Лицей»?
Я считаю правильным сам факт ограничения — если премия заявлена как молодежная, странно допускать к ней зрелых авторов. Вопрос о конкретной возрастной границе можно бы и пообсуждать, но зачем? Мне, например, немножко обидно, что, как ни менялись возрастные рамки премии «Дебют», я всякий раз оказывался для нее слишком старым — но значит ли это, что рамки были неправильными? Вряд ли. «Лицей», насколько я знаю, придумывался очень быстро, чтобы занять опустевшую вдруг, но крайне нужную нишу. Заявленные требования позволили собрать очень неплохой урожай отличных авторов. Значит, механизм работает. А коли работает — не лезь, это вам любой инженер или программист скажет.
— Верите ли вы в теорию? Речь о теории драмы, структуре сюжета и т. д.?
Верю я, как уже известно, в Господа нашего и его пророка, а к теории отношусь с сочувственным интересом. Понятно, что теория отлично описывает сложившуюся практику, и понятно, что буквальное следование теории способно лишь раз за разом воспроизводить уже имеющуюся практику. В житейском и коммерческом смысле это неплохо, но нам бы чего-нибудь поновее, хоть и с оглядкой на теорию.
— Расскажите о вашем видении: как взаимодействуют в писателе талант и мастерство? Вот что писал Александр Цейтлин в книге «Путь писателя»: «Изучение эстетики и техники писательского труда не может заменить собою таланта; однако при прочих равных условиях выше будет мастерство того художника, который овладел техникой своего искусства».
Бесспорно, по-моему. Мастерство, техника — инструмент, талант — субъект приложения этого инструмента. Талантливый необученный панчер может вырубить технаря на первой секунде боксерского матча, бесталанный, но дисциплинированный технарь почти обязательно вырубит не обученного панчера раунду к шестому, натренированный панчер может стать чемпионом. Без техники можно написать одну книжку, но уже на второй ты либо сдохнешь и бросишь, либо начнешь потихонечку учиться энергосберегающим технологиям и выходам на кратчайшие расстояния между точками.
— И куда идти за техникой? В литшколы или вглубь себя?
В литшколы не верю совсем, простите, но, возможно, сугубо из-за нехватки опыта. Надо учиться у великих и любимых. Читать, сравнивать, анализировать, примерять их приемы и подходы, и искать собственный фасон. Всегда.
Лев Толстой написал в своем дневнике: «Когда вам хочется писать — удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же. Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть, — садитесь и пишите. Наверное, напишете что-нибудь хорошее». Вы, судя по вашим интервью, пишете ровно так?
Так точно. Мы со Львом Николаевичем серьезно расходимся как в эстетических вопросах (его страсть к повторам делает мне больно: «Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.»), так и в масштабах (он гений и титан, а я нет), но по данному вопросу я полностью с ним согласен. Лишь с той оговоркой, что предпочел бы сачковать и под угрозой лопания — но что-то не получается, увы.
— Бальзак говорил о художнике слова, что он, «прежде чем писать книгу», должен «проанализировать все характеры, проникнуться всеми нравами, обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти». Вы согласны с такой формулировкой?
В идеале это было бы недурственно: ни один художник слова не пишет, все знай проникаются нравами и бегают вокруг земшара, поди плохо. На практике это, конечно, невозможно: земной шар велик, жизнь коротка. Не набегаисси. Но я согласен с тем, что автор должен полностью и в деталях представлять себе описываемую часть мира, своих героев, знать их происхождение, пусть ни словом не упомянутое в тексте, болячки и психотравмы, и не лажать ни в обоснованности и последовательности событий, ни в психологическом рисунке, ни в тонкостях описываемого производства, ни в фабульном таймлайне.
— Расскажите, пожалуйста, о процессе. Как он происходит? Сложно ли вам поймать идею грядущей вещи? Долго ли вынашиваете ее, прежде чем сесть за работу?
Приходит в голову, придумывается или снится сюжет, деталь, поворот событий, иногда вполне реальных. Я записываю несколько строк в специальный файлик и благополучно забываю. Иногда не получается — сюжет или событие начинают зудеть, пухнуть, обрастать ложноножками и крючочками, которые подцепляют новые извилины, сюжетные и мои собственные. Когда терпеть невозможно, я сажусь писать.
— Как вы пишете? Расскажите, пожалуйста, где писательство умещается в вашей повседневной жизни?
Пишу за компьютером — сперва составляю план книги, потом, уже по ходу дела, второй, третий и так далее. Ни одна моя книга первоначальному плану не соответствует — и в пересказе, в общем-то, не слишком совпадает с идеей, заставившей меня ухнуть в текст. Самое удобное — встать в половине шестого и писать полтора часа, пока башка ясная, а семья не проснулась. Но удавался мне такой фокус буквально несколько раз в жизни. Рабочий режим редакции предусматривает поздний отбой и, соответственно, поздний подъем. Поэтому я пишу ночами, в выходные и в праздники, а с утра до ночи работаю там, где получаю зарплату. Семья к этому уже привыкла. Мне стыдно, но что поделаешь. Впрочем, когда текст придуман, я могу записывать его в любой ситуации — в самолете, поезде, рядом с конюшней, пока у дочери тренировка, и так далее. Очень завидую молодым коллегам, которые наблатыкались набивать целые повести двумя пальцами в смартфоне, пока едут на службу и обратно в метро. Я старенький, и пальцы у меня кривые. Но, может, научусь — и тогда всем хана.
— «Писать о том, что пережил, видел или достоверно знаю сам, при этом не уходя в документализм и буквализм». Где в художественной литературе проходит грань между достоверностью и документализмом и как не скатиться в буквализм?
Точных ответов и рецептов я не знаю. Мне, наверное, помогает, что я точно знаю, как писать в газету или на сайт качественных новостей и аналитики — и исхожу из того, что книги пишутся не так, а по-другому. Даже основанные на реальных событиях, тяготеющие к литературе факта, новому журнализму и древнему акынству. Как именно по-другому, каждый автор решает, выбирает и придумывает сам. В любом случае, художественная литература предусматривает осмысление, обобщение и заострение — что дает хороший шанс обойтись без попыток ксерокопировать реальность. Надо лишь не прощелкать этот шанс. Я сейчас говорю про худлит, но в документальной литературе похожие законы. «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича формально документальный роман, но это великолепная и подчеркнуто авторская проза огромной ударной силы.
— Горький писал: «Оказывается, как и всегда, необходимо участвовать непосредственно в процессах жизни, которые хочешь понять. Это особенно важно и обязательно для литератора». Какие жизненные процессы влияют на вас как на писателя сейчас?
Самые обыкновенные. Семейные и общечеловеческие, далее — гражданские и социальные. Я отец, муж и сын, это в первую очередь, понятно, но и то, что я россиянин, татарин, мусульманин, представитель ИД «Коммерсантъ» и вообще журналистского и литературного цехов, вряд ли многим меньше влияет на меня и вряд ли многим меньше определяет мое существование. С Горьким я не совсем согласен в части формулировки «участвовать непосредственно» — но наблюдать, изучать и понимать то, чем живешь, надо каждому нормальному человеку — ну и литератору, который это описывает, тем более.
— «Литература — она вообще про частное, иначе это уже публицистика». Расшифруйте, пожалуйста, эту вашу формулировку.
Die erste Kolonne marschiert и равнодействующая миллионов воль — это публицистика, история и ее учебник. Побег Наташи с Анатолем и высокое небо в глазах Андрея — это частное дело Наташи, Анатоля, Андрея и еще пары десятков людей, которые любят или ненавидят их, которые никогда не существовали, которые гораздо реальнее существовавших реально колонн и миллионов, и на частных бедах, радостях, глупостях и подвигах которых держится насквозь выдуманный сюжет, — и это великая литература.
— Верите ли вы, что писатель в определенном роде может влиять на реальность и программировать ее?
В определенном — да. Большинство человеческих цивилизаций собиралось вокруг конкретной книги, которую кто-то да писал — ну или записывал. И в недавнем прошлом примеров прямого влияния на реальность немало: «Я обвиняю», «Не могу молчать», «Гроздья гнева», «Тимур и его команда», да и у нас некоторые рождены, чтобы Кафку сделать былью. Но я предпочел бы не считать книгу и писателя инструментами прямого и немедленного воздействия на реальность. Такой подход и писателям жизнь портит и реальность не уважает. Писатель все-таки работает с тонкими материями и невидимыми нейронами, которые наверняка меняются под напором писательской рефлексии, но происходит это потихонечку и совсем не так, как задумано. Сегодня куда больше реальность меняют инженерная мысль и программный код — но не будем забывать, что без книг не было бы ни того, ни другого.
— Харуки Мураками говорит, что писательство «токсичная профессия» с целым букетом побочных эффектов. Как вы относитесь к такой формулировке?
Легко, потому что у меня все-таки другая профессия. Впрочем, известные мне настоящие писатели — преимущественно довольно милые люди и даже пьют не сильно больше других. И я не замечал, чтобы они страдали сами и заражали окружающих ипохондрией, синдромами Мюнхгаузена или Стендаля, либо даже слишком откровенно относились к ближним своим как к кормовой базе, от которой полагается откусывать нужные для текста черты внешности и характера либо речевые особенности. Химическое или литейное производство куда токсичнее, уж поверьте.
— Где проходит грань между графоманией и писательством?
Лично для меня — по юмореске Константина Мелихана. Это неправильный подход, потому что судить надо все-таки по продукту, по написанному тексту: писатель выгоняет из себя уникальное литературное полотно, как паук паутину, а графоман клепает шикарное сооружение из готовых кубиков или там элементов «Лего» (иногда он в муках рожает кубики сам — тем хуже для него). Иногда случается, конечно, что выгнанное большим мастером полотно мух не ловит, не цепляет и не торкает, а слепленная неумейкой конструкция оказывается очередным чудом света. Но это редкость. В основном правило работает: писатель лепит из собственного материала историю, интересную многим, а история графомана выполнена из общедоступных и симпатичных многим комплектующих, но интересна только ему.
— Какой главный совет вы можете дать не изданным пока авторам?
Не начинайте писать, пока такое возможно. Если начали — дописывайте. Дальше как получится, но недописанной книги не существует: если она даже автору не нужна, как вы сможете заинтересовать ею издателя и читателя?
— Что делать, если ничего не получается?
Делать что-то другое. Хотя «ничего» — слишком категоричная формулировка, чтобы быть правдивой. Что-нибудь да получается: завязка интригующая, второстепенный герой удался, описание злодея чарует, деепричастные обороты гипнотизируют, а вывод заставляет любого читателя немедленно встать и вымыть посуду. Попробуйте — сами или с помощью не слишком злобных знатоков, в студии, литкружке или личке соцсети, —найти сильные и слабые стороны своего текста и подумать над тем, можно ли первое развить, а второе исправить. Если что-то придумаете — пытайтесь. Если нет — см. начало ответа.
— Важна ли для писателя дисциплина?
Определяюще важна. Особенно после первой книги и первого успеха.
— Расшифруйте, пожалуйста. Успех вредит творчеству?
Успех окрыляет, расслабляет и толкает к одной из двух тупиковых тактик. Первая — «новые песни пишет тот, у кого старые плохие». Вторая — «чтобы повторить успех, надо повторить успешный текст — написать примерно так же примерно про то же». Дальше начинается синдром второй книги, которую ждут, которую хочется написать под не меньший хайп, но «еще более лучше» и с коэффициентом 4. На выходе получается испорченная понтами версия первой книги либо некрасивый плод ошибки под названием «А я еще и вот так могу». Самое забавное, что это не худшие варианты. Худший вариант — это пресловутое почивание на лаврах. Оно приятно и удобно, уж всяко приятней и удобней придумывания и выписывания чего-то нового. И вот тут как раз необходима дисциплина, которая заставит тебя писать, думать и каждый день менять удобный заношенный халат на свежевыстиранную рабочую одежду.
— Вы говорили, что желание, если сел писать, — спихнуть с себя текст поскорее. Не начинает ли вас раздражать текст, который вы пишете, потому что он все никак не закончится?
Он дико раздражает на разных стадиях — когда просится наружу, когда никак не кончается и когда, готовым уже, вычитывается раз за разом. Это нормальное раздражение, стимулирующее такое — потому что против него есть метод, и он единственный: доделать.
— Изменили ли вас как-то литературные премии? Например, попадание в короткий список «Большой книги»?
Да вроде нет. Скорее, отношение ко мне изменилось: уважают, зовут, опять же, с идентификацией проще стало. Но я-то сам для того, чтобы стать лауреатом, ничего не сделал — книги я не ради этого писал, и на голосование повлиять никак не мог, чего же мне меняться-то? С другой стороны, сумма счастливых моментов в моей жизни выросла, до сих пор хихикаю, как вспомню. А я вообще похихикать люблю. Спасибо премиям, в общем.
Ни в коем случае. Книгу должны читать. Без читателя нет ни книги, ни писателя. Отдельные исключения лишь подтверждают это правило.
— И как же тогда достучаться читателя? Осуществлять ковровые бомбардировки почтовых ящиков «всех издателей, контакты которых удалось найти»?
Да, например. А лучше целевым образом искать выходы на редакторов книг и серий, которые, как вам кажется, хоть немного похожи на вашу. Издатель, с одной стороны, профи, который умеет работать с товаром под названием книга — в отличие от вас и меня. Он вкладывает деньги и в этот товар, и в вас, как в автора. Он не только заинтересован в том, чтобы товар дошел до потребителя и, стало быть, деньги отбились, но и знает, как это делать. В отличие от барыг, издающих книги за счет автора: они берут ваши деньги и на этом теряют интерес к чему бы то ни было. Это нормально и понятно, непонятно, вам-то такая радость зачем. И нормальному издателю постоянно нужны новые продаваемые книги.
Участие в конкурсах — еще один способ обратить на себя внимание издателя. Я в разных качествах имел отношение к четырем солидным конкурсам: «Большой книге», «Книгуру», «Лицею» и конкурсу имени Крапивина. Смею заверить, что в этих конкурсах, во-первых, судейство по итогам может быть спорным и бесящим, но оно всегда честное. Во-вторых, победить в таких конкурсах непросто, но шанс выйти в полуфинал есть всегда, чисто по арифметическим соображениям: каждый год полуфиналы десятка солидных конкурсов собирают — при всех неизбежных пересечениях списков — около сотни текстов. Большей частью это очень сильные тексты — но и вы ведь не слабы, правильно? Пробуйте.
В-третьих, издатели (а также критики и продвинутые читатели) пристально следят за ходом серьезных конкурсов и делают стойку не только на победителей, но и на финалистов и полуфиналистов. Ну и в-четвертых, в победители то и дело выходят мало кому известные авторы или абсолютные новички, и даже обойденный наградами текст может выскочить на пик читательского интереса. Последний пример — великолепный роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»: второй роман уральца в саратовском журнале (как и первый) почти никто не замечал, пока текст не попал в шорт «Большой книги». Книга оказалась еще в нескольких коротких списках, осталась без премий, но была издана в редакции Елены Шубиной, и даже после нескольких допечаток возглавляет топы продаж. И главное — ее читают, она колбасит, из-за нее грызутся. И первый роман Сальникова, который выходит книгой на днях, думаю, ждет похожая судьба.
— Как же найти дорогу к издателю — ваш персональный рецепт?
Мой рецепт примитивен — как сказано выше: веерная рассылка с особым упором на попытки достучаться до тех, кому мои тексты могут показаться симпатичными и близкими. Но срабатывало ведь.
— «Литература без свежей крови киснет и задыхается — это факт. Молодому автору трудно оказаться замеченным на маститом фоне — тоже факт». Как молодому автору заявить о себе?
Участвовать в конкурсах, отправлять тексты в толстые и тонкие журналы, в издательства, выкладывать их на безгонорарные, но респектабельные площадки. Никогда не платить за это.
— Стоит ли начинающему писателю, опубликовавшемуся, скажем, на Ridero (или любой другой площадке), назначать цену за книгу? Или распространяться бесплатно?
Совсем начинающему, думаю, цену за книгу назначать не стоит — он кот в мешке, за такое не платят. Надо собрать и подкормить аудиторию, показать, что ты чего-то стоишь, — и вот тогда уже. Первая доза бесплатно — девиз самых эффективных в маркетинговом смысле сегментов ритейла.
— Вы верите в толстые литературные журналы?
Я верю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его. Толстые журналы я нежно люблю и считаю существенным элементом фундамента, на котором до сих пор держится некоммерческая литература и культура в целом. Живется им все хуже, но если их не станет, мы съедем еще ближе к краю бездны, где весело и не надо думать.
— Вы считаете правильным ограничение возраста участников литературной премии «Лицей»?
Я считаю правильным сам факт ограничения — если премия заявлена как молодежная, странно допускать к ней зрелых авторов. Вопрос о конкретной возрастной границе можно бы и пообсуждать, но зачем? Мне, например, немножко обидно, что, как ни менялись возрастные рамки премии «Дебют», я всякий раз оказывался для нее слишком старым — но значит ли это, что рамки были неправильными? Вряд ли. «Лицей», насколько я знаю, придумывался очень быстро, чтобы занять опустевшую вдруг, но крайне нужную нишу. Заявленные требования позволили собрать очень неплохой урожай отличных авторов. Значит, механизм работает. А коли работает — не лезь, это вам любой инженер или программист скажет.
— Верите ли вы в теорию? Речь о теории драмы, структуре сюжета и т. д.?
Верю я, как уже известно, в Господа нашего и его пророка, а к теории отношусь с сочувственным интересом. Понятно, что теория отлично описывает сложившуюся практику, и понятно, что буквальное следование теории способно лишь раз за разом воспроизводить уже имеющуюся практику. В житейском и коммерческом смысле это неплохо, но нам бы чего-нибудь поновее, хоть и с оглядкой на теорию.
— Расскажите о вашем видении: как взаимодействуют в писателе талант и мастерство? Вот что писал Александр Цейтлин в книге «Путь писателя»: «Изучение эстетики и техники писательского труда не может заменить собою таланта; однако при прочих равных условиях выше будет мастерство того художника, который овладел техникой своего искусства».
Бесспорно, по-моему. Мастерство, техника — инструмент, талант — субъект приложения этого инструмента. Талантливый необученный панчер может вырубить технаря на первой секунде боксерского матча, бесталанный, но дисциплинированный технарь почти обязательно вырубит не обученного панчера раунду к шестому, натренированный панчер может стать чемпионом. Без техники можно написать одну книжку, но уже на второй ты либо сдохнешь и бросишь, либо начнешь потихонечку учиться энергосберегающим технологиям и выходам на кратчайшие расстояния между точками.
— И куда идти за техникой? В литшколы или вглубь себя?
В литшколы не верю совсем, простите, но, возможно, сугубо из-за нехватки опыта. Надо учиться у великих и любимых. Читать, сравнивать, анализировать, примерять их приемы и подходы, и искать собственный фасон. Всегда.
Лев Толстой написал в своем дневнике: «Когда вам хочется писать — удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же. Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть, — садитесь и пишите. Наверное, напишете что-нибудь хорошее». Вы, судя по вашим интервью, пишете ровно так?
Так точно. Мы со Львом Николаевичем серьезно расходимся как в эстетических вопросах (его страсть к повторам делает мне больно: «Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.»), так и в масштабах (он гений и титан, а я нет), но по данному вопросу я полностью с ним согласен. Лишь с той оговоркой, что предпочел бы сачковать и под угрозой лопания — но что-то не получается, увы.
— Бальзак говорил о художнике слова, что он, «прежде чем писать книгу», должен «проанализировать все характеры, проникнуться всеми нравами, обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти». Вы согласны с такой формулировкой?
В идеале это было бы недурственно: ни один художник слова не пишет, все знай проникаются нравами и бегают вокруг земшара, поди плохо. На практике это, конечно, невозможно: земной шар велик, жизнь коротка. Не набегаисси. Но я согласен с тем, что автор должен полностью и в деталях представлять себе описываемую часть мира, своих героев, знать их происхождение, пусть ни словом не упомянутое в тексте, болячки и психотравмы, и не лажать ни в обоснованности и последовательности событий, ни в психологическом рисунке, ни в тонкостях описываемого производства, ни в фабульном таймлайне.
— Расскажите, пожалуйста, о процессе. Как он происходит? Сложно ли вам поймать идею грядущей вещи? Долго ли вынашиваете ее, прежде чем сесть за работу?
Приходит в голову, придумывается или снится сюжет, деталь, поворот событий, иногда вполне реальных. Я записываю несколько строк в специальный файлик и благополучно забываю. Иногда не получается — сюжет или событие начинают зудеть, пухнуть, обрастать ложноножками и крючочками, которые подцепляют новые извилины, сюжетные и мои собственные. Когда терпеть невозможно, я сажусь писать.
— Как вы пишете? Расскажите, пожалуйста, где писательство умещается в вашей повседневной жизни?
Пишу за компьютером — сперва составляю план книги, потом, уже по ходу дела, второй, третий и так далее. Ни одна моя книга первоначальному плану не соответствует — и в пересказе, в общем-то, не слишком совпадает с идеей, заставившей меня ухнуть в текст. Самое удобное — встать в половине шестого и писать полтора часа, пока башка ясная, а семья не проснулась. Но удавался мне такой фокус буквально несколько раз в жизни. Рабочий режим редакции предусматривает поздний отбой и, соответственно, поздний подъем. Поэтому я пишу ночами, в выходные и в праздники, а с утра до ночи работаю там, где получаю зарплату. Семья к этому уже привыкла. Мне стыдно, но что поделаешь. Впрочем, когда текст придуман, я могу записывать его в любой ситуации — в самолете, поезде, рядом с конюшней, пока у дочери тренировка, и так далее. Очень завидую молодым коллегам, которые наблатыкались набивать целые повести двумя пальцами в смартфоне, пока едут на службу и обратно в метро. Я старенький, и пальцы у меня кривые. Но, может, научусь — и тогда всем хана.
— «Писать о том, что пережил, видел или достоверно знаю сам, при этом не уходя в документализм и буквализм». Где в художественной литературе проходит грань между достоверностью и документализмом и как не скатиться в буквализм?
Точных ответов и рецептов я не знаю. Мне, наверное, помогает, что я точно знаю, как писать в газету или на сайт качественных новостей и аналитики — и исхожу из того, что книги пишутся не так, а по-другому. Даже основанные на реальных событиях, тяготеющие к литературе факта, новому журнализму и древнему акынству. Как именно по-другому, каждый автор решает, выбирает и придумывает сам. В любом случае, художественная литература предусматривает осмысление, обобщение и заострение — что дает хороший шанс обойтись без попыток ксерокопировать реальность. Надо лишь не прощелкать этот шанс. Я сейчас говорю про худлит, но в документальной литературе похожие законы. «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича формально документальный роман, но это великолепная и подчеркнуто авторская проза огромной ударной силы.
— Горький писал: «Оказывается, как и всегда, необходимо участвовать непосредственно в процессах жизни, которые хочешь понять. Это особенно важно и обязательно для литератора». Какие жизненные процессы влияют на вас как на писателя сейчас?
Самые обыкновенные. Семейные и общечеловеческие, далее — гражданские и социальные. Я отец, муж и сын, это в первую очередь, понятно, но и то, что я россиянин, татарин, мусульманин, представитель ИД «Коммерсантъ» и вообще журналистского и литературного цехов, вряд ли многим меньше влияет на меня и вряд ли многим меньше определяет мое существование. С Горьким я не совсем согласен в части формулировки «участвовать непосредственно» — но наблюдать, изучать и понимать то, чем живешь, надо каждому нормальному человеку — ну и литератору, который это описывает, тем более.
— «Литература — она вообще про частное, иначе это уже публицистика». Расшифруйте, пожалуйста, эту вашу формулировку.
Die erste Kolonne marschiert и равнодействующая миллионов воль — это публицистика, история и ее учебник. Побег Наташи с Анатолем и высокое небо в глазах Андрея — это частное дело Наташи, Анатоля, Андрея и еще пары десятков людей, которые любят или ненавидят их, которые никогда не существовали, которые гораздо реальнее существовавших реально колонн и миллионов, и на частных бедах, радостях, глупостях и подвигах которых держится насквозь выдуманный сюжет, — и это великая литература.
— Верите ли вы, что писатель в определенном роде может влиять на реальность и программировать ее?
В определенном — да. Большинство человеческих цивилизаций собиралось вокруг конкретной книги, которую кто-то да писал — ну или записывал. И в недавнем прошлом примеров прямого влияния на реальность немало: «Я обвиняю», «Не могу молчать», «Гроздья гнева», «Тимур и его команда», да и у нас некоторые рождены, чтобы Кафку сделать былью. Но я предпочел бы не считать книгу и писателя инструментами прямого и немедленного воздействия на реальность. Такой подход и писателям жизнь портит и реальность не уважает. Писатель все-таки работает с тонкими материями и невидимыми нейронами, которые наверняка меняются под напором писательской рефлексии, но происходит это потихонечку и совсем не так, как задумано. Сегодня куда больше реальность меняют инженерная мысль и программный код — но не будем забывать, что без книг не было бы ни того, ни другого.
— Харуки Мураками говорит, что писательство «токсичная профессия» с целым букетом побочных эффектов. Как вы относитесь к такой формулировке?
Легко, потому что у меня все-таки другая профессия. Впрочем, известные мне настоящие писатели — преимущественно довольно милые люди и даже пьют не сильно больше других. И я не замечал, чтобы они страдали сами и заражали окружающих ипохондрией, синдромами Мюнхгаузена или Стендаля, либо даже слишком откровенно относились к ближним своим как к кормовой базе, от которой полагается откусывать нужные для текста черты внешности и характера либо речевые особенности. Химическое или литейное производство куда токсичнее, уж поверьте.
— Где проходит грань между графоманией и писательством?
Лично для меня — по юмореске Константина Мелихана. Это неправильный подход, потому что судить надо все-таки по продукту, по написанному тексту: писатель выгоняет из себя уникальное литературное полотно, как паук паутину, а графоман клепает шикарное сооружение из готовых кубиков или там элементов «Лего» (иногда он в муках рожает кубики сам — тем хуже для него). Иногда случается, конечно, что выгнанное большим мастером полотно мух не ловит, не цепляет и не торкает, а слепленная неумейкой конструкция оказывается очередным чудом света. Но это редкость. В основном правило работает: писатель лепит из собственного материала историю, интересную многим, а история графомана выполнена из общедоступных и симпатичных многим комплектующих, но интересна только ему.
— Какой главный совет вы можете дать не изданным пока авторам?
Не начинайте писать, пока такое возможно. Если начали — дописывайте. Дальше как получится, но недописанной книги не существует: если она даже автору не нужна, как вы сможете заинтересовать ею издателя и читателя?
— Что делать, если ничего не получается?
Делать что-то другое. Хотя «ничего» — слишком категоричная формулировка, чтобы быть правдивой. Что-нибудь да получается: завязка интригующая, второстепенный герой удался, описание злодея чарует, деепричастные обороты гипнотизируют, а вывод заставляет любого читателя немедленно встать и вымыть посуду. Попробуйте — сами или с помощью не слишком злобных знатоков, в студии, литкружке или личке соцсети, —найти сильные и слабые стороны своего текста и подумать над тем, можно ли первое развить, а второе исправить. Если что-то придумаете — пытайтесь. Если нет — см. начало ответа.
— Важна ли для писателя дисциплина?
Определяюще важна. Особенно после первой книги и первого успеха.
— Расшифруйте, пожалуйста. Успех вредит творчеству?
Успех окрыляет, расслабляет и толкает к одной из двух тупиковых тактик. Первая — «новые песни пишет тот, у кого старые плохие». Вторая — «чтобы повторить успех, надо повторить успешный текст — написать примерно так же примерно про то же». Дальше начинается синдром второй книги, которую ждут, которую хочется написать под не меньший хайп, но «еще более лучше» и с коэффициентом 4. На выходе получается испорченная понтами версия первой книги либо некрасивый плод ошибки под названием «А я еще и вот так могу». Самое забавное, что это не худшие варианты. Худший вариант — это пресловутое почивание на лаврах. Оно приятно и удобно, уж всяко приятней и удобней придумывания и выписывания чего-то нового. И вот тут как раз необходима дисциплина, которая заставит тебя писать, думать и каждый день менять удобный заношенный халат на свежевыстиранную рабочую одежду.
— Вы говорили, что желание, если сел писать, — спихнуть с себя текст поскорее. Не начинает ли вас раздражать текст, который вы пишете, потому что он все никак не закончится?
Он дико раздражает на разных стадиях — когда просится наружу, когда никак не кончается и когда, готовым уже, вычитывается раз за разом. Это нормальное раздражение, стимулирующее такое — потому что против него есть метод, и он единственный: доделать.
— Изменили ли вас как-то литературные премии? Например, попадание в короткий список «Большой книги»?
Да вроде нет. Скорее, отношение ко мне изменилось: уважают, зовут, опять же, с идентификацией проще стало. Но я-то сам для того, чтобы стать лауреатом, ничего не сделал — книги я не ради этого писал, и на голосование повлиять никак не мог, чего же мне меняться-то? С другой стороны, сумма счастливых моментов в моей жизни выросла, до сих пор хихикаю, как вспомню. А я вообще похихикать люблю. Спасибо премиям, в общем.
Об авторе
Шамиль Идиатуллин. Биографическая справка
Шамиль Идиатуллин — российский журналист и писатель. Последние 11 лет руководит отделом, курирующим региональные выпуски ИД «Коммерсантъ». Автор восьми романов. Последний роман «Город Брежнев» стал лауреатом литературной премии «Большая книга» (третье место) и получил третье место в неофициальном («народном») голосовании. 31 марта 2018 года вышло из типографии переиздание романа СССР™ (издательство "Азбука"), впервые увидевшего свет в 2010 году.
