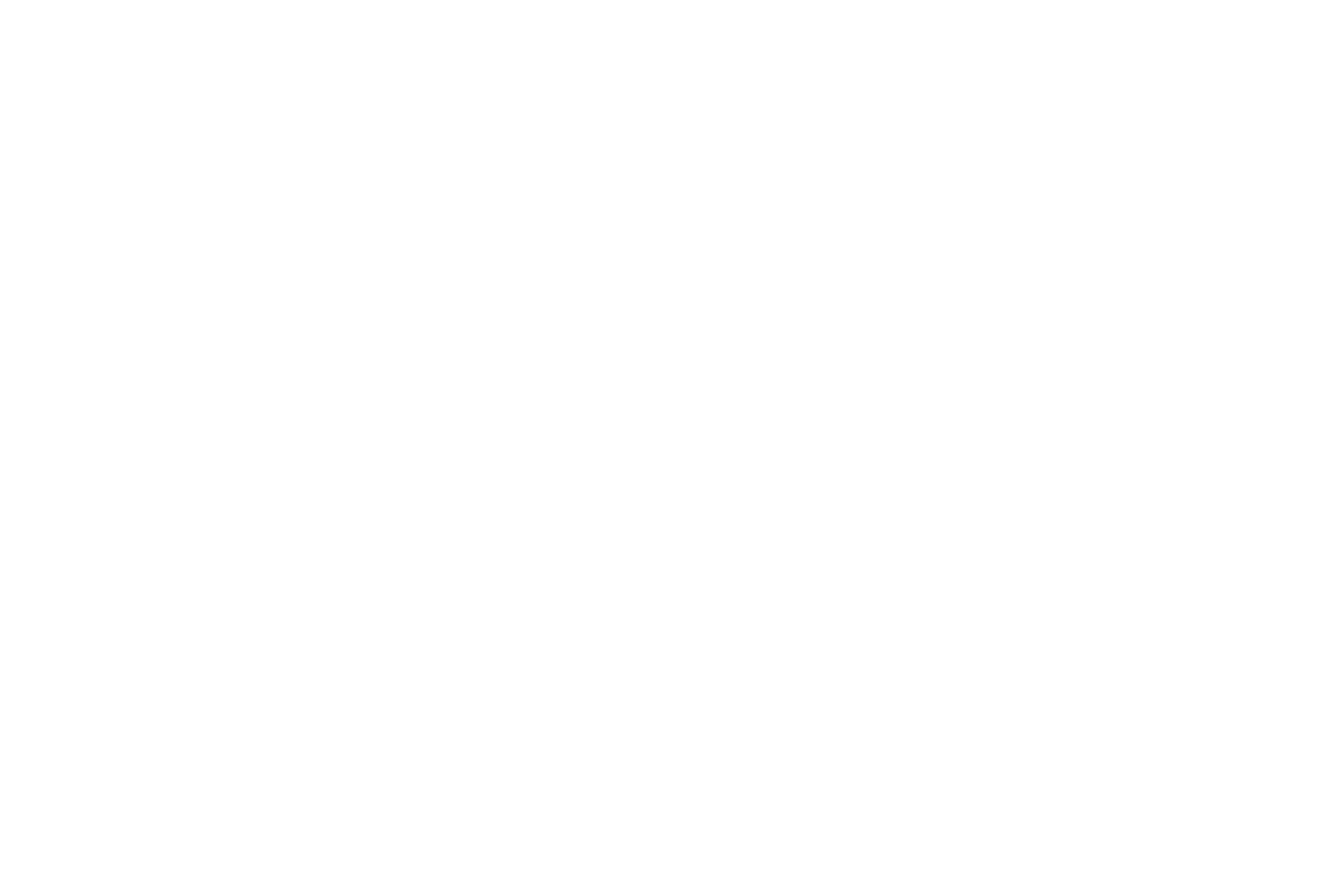
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
эссе
Джонатан Франзен: проблемы литературы, повествующей о природе
Чтобы добиться успеха — заинтересовать людей сохранением мира — недостаточно писать только о природе.
О чем?
Джонатан Франзен написал для The New Yorker блестящее эссе о природе (на самом деле, не о ней), затрагивающее фундаментальную проблему — как написать вовлекающий читателя текст.
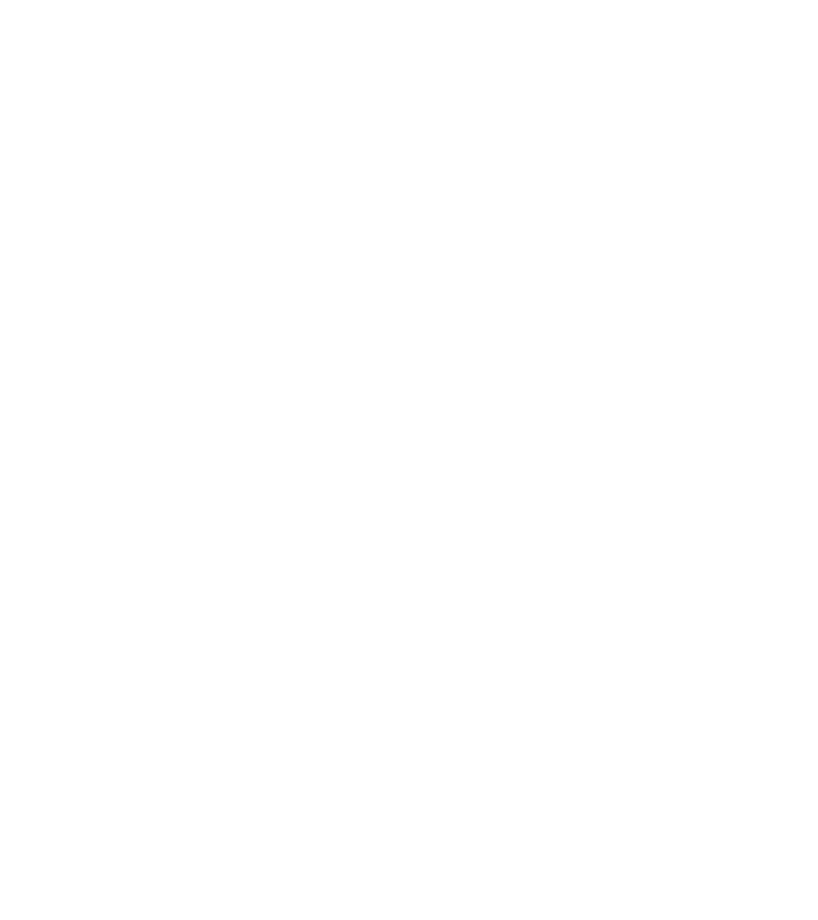
Джонатан Франзен, писатель
Библия — основополагающий текст западной литературы, игнорировать который для начинающего писателя опасно. В молодости у меня было честолюбивое желание прочитать ее от корки до корки. Быстро пробежавшись по ранним историям и волочась через религиозные законы, которые по крайней мере представляли социологический интерес, я решил дать себе послабление с Книгами Царств и Паралипоменон (чьи списки патриархов и их многочисленных сыновей, казалось, были не более необходимы для чтения, чем телефонная книга). С осмотрительным пропуском отрывков я дошел до конца Иова. Но затем последовали Псалмы, и здесь мое честолюбие потерпело фиаско.
Хотя некоторые из Псалмов запоминающиеся («Господь — Пастырь мой»), в основном они невероятно однообразны. Снова и снова припев: жизнь полна испытаний, но Бог рядом. Чтобы наслаждаться Псалмами, оценить нюансы преданности, которые они выражают, нужно быть верующим. Нужно любить Бога, чего у меня не было. И так я отложил книгу в сторону.
Лишь позже, когда я полюбил птиц, я понял, что моя проблема с Псалмами заключалась не просто в отсутствии веры. Более глубокой проблемой был их жанр. Исходя из радости, которую я ежедневно испытываю, наблюдая золотистых щеглов в моей птичьей кормушке или слыша возбужденного крапивника за забором, я могу представить радость, которую верующий находит в Боге.
Радость может быть крепкой или мягкой, но это всегда радость: расцветание в сердце. Миру и самому факту бытия живым в нем. И так я человек, на которого псалом птицам, письменное прославление их славы, оказывает такой же эффект, какой библейский псалом оказывает на верующего. В конце концов, и псалмопевец, и я испытываем одну и ту же радость. А другие любители птиц сообщают, что их восхищает орнитологический лиризм; книги вроде «Сапсана» Дж. А. Бейкера.
Многие люди, которых я уважаю, настоятельно рекомендовали мне «Сапсана». Но каждый раз, когда я пытаюсь его прочесть, я увязаю в описании ландшафта, в котором Бейкер изучал сапсанов. Сам Бейкер признает препятствие — «Подробные описания скучны» — предлагая при этом страницу за страницей однообразного описательного чтения. Дальше — когда Бейкер превозносит возможности сапсанов и пытается понять, каково быть одним из них — книга становится более читабельной. Даже тогда, однако, главным стремление писателя становится вот что: вызвать во мне нетерпение самому оказаться на природе и увидеть сапсанов.
Иногда я рассматриваю как недостаток, признак писательской конкуренции. В том смысле, что я гораздо охотнее испытываю частную радость от птиц и природы вообще, чем читаю о них книгу другого человека. Но как писатель я также помню, что мы живем в мире, где природа быстро исчезает из повседневной жизни.
Есть неотложная потребность заинтересовать неверующих природой, подтолкнуть их к заботе о том, что осталось от нечеловеческого мира. Я не могу не подозревать, что они разделяют мою аллергию на гимны преданности. Сила Библии как текста проистекает из ее историй. Если бы я был проповедником, ходящим от двери к двери, я бы держался подальше от Псалмов. Я бы начал с фактов, как я их вижу: Бог создал вселенную, мы, люди, грешим против Его законов, и Иисус был послан искупить нас, со значимыми последствиями. Каждый, верующий и неверующий, наслаждается хорошей историей. И так, мне кажется, что первое правило евангелистской натуралистической литературы должно быть: Расскажи одну (историю).
Почти вся натуралистическая литература рассказывает какую-то историю. Писатель отправляется в прекрасное местное болото или в нетронутый лес, видит красоту, ощущает разницу в течении времени, чувствует связь с более глубокой историей или более обширной паутиной жизни, продолжает путь, видит орлана, слышит гагару: это, технически, повествование. Если затем у писателя ломается нога или его тревожит медведь-гризли с медвежатами, это может превратиться в интересную историю. Гораздо чаще, однако, повествование остается не более чем формальностью, возможностью для размышления и описания. Природа приводит в восторг писателя, и он надеется передать эту радость другим. Желает донести до читателя детали того, что вызвало эту радость.
К сожалению, независимо от того, насколько удачны описания природы, писатель конкурирует с другими медиа, к которым читатель мог бы обратиться — аудиовизуальными медиа, которые действительно показывают вам орлана или позволяют услышать гарару. С тех пор как появились цветная фотография и звукозапись, длинные описания стали проблематичны во всех жанрах литературы, и они особенно проблематичны для проповедующего, пищущего о природе, писателя. Чтобы хорошо описать сцену природы, писателю трудно избежать терминологии, чуждой читателям, которые еще не были свидетелями подобной сцены.
Будучи наблюдателем птиц, я знаю, как звучит рубиновоголовый королек; если написать, что королек чирикает в иве, я могу ясно услышать этот звук. Сами слова «рубиновоголовый королек» образны для меня и волнуют меня. Я с жадностью прочту неприкрашенный список видов — краснощекий бюльбюль, лазоревка обыкновенная, серая мухоловка, — которых мой друг увидел во время утренней прогулки. Для меня этот список сам по себе повествование. Для необращенного читателя, однако, список мог бы звучать примерно так: Ира сын Иккеша из Текоа, Авиезер из Анафофа, Мевуннай Хушатянин...
Если птицы — фокус писателя, конечно, существуют хорошие истории об отдельных птицах (краснохвостые ястребы Центрального парка) и отдельных видах (непрерывный транстихоокеанский полет берингийских песочников). И я могу сказать, судя по ссылкам на новости о птицах, которые мои не наблюдающие за птицами друзья постоянно пересылают мне, что сообщения об удивительных птичьих подвигах могут преодолеть общественное равнодушие к птицам, по крайней мере на мгновение. Приводят ли такие истории к обращению — а я скажу здесь прямо: я заинтересован в обращении не влюбленных в птиц людей — менее очевидно. Мир изобилует вещами, вызывающими любопытство.
Писатель о птицах и об орнитологии болезненно осознает, что у него есть лишь несколько сотен слов, чтобы зацепить неспециалиста-читателя. Один соблазнительный подход к этой проблеме — начать in medias res, у костра в живописном или пустынном месте, и познакомить нас с Исследователем. У него будет кудрявая борода, и он будет играть на мандолине. Или девушка-исследователь влюбится в птиц на ферме своего деда в Кентукки. Он или она будут жесткими и одержимыми, иногда смешными, всегда восхитительными.
Опасность такого подхода заключается в том, что если Исследователь не выступит как истинный предмет материала, мы, читатели, можем почувствовать себя одураченными: приглашенными поверить, что читаем историю о людях, хотя на самом деле история о птице. В таком случае справедливо спросить, зачем нам вообще потребовалось знакомство с Исследователем.
Парадокс натуралистической литературы заключается в том, что для успеха как проповеди она не может быть только о природе. Э.О. Уилсон, возможно, был прав, приводя биофилию — любовь к природе — как всеобщую черту человеческих существ. Судя по состоянию планеты, однако, это качество выражается слишком редко. Что чаще всего активизирует его — это демонстрация людей, у которых это качество уже «активно».
По моему опыту, если спросить группу наблюдателей птиц, что привлекло их к птицам, четверо из пяти упомянут родителя, учителя, близкого друга — кого-то, с кем у них была интенсивная личная связь. Но верных немного, неубежденных много. Чтобы достичь читателей, полностью поглощенных своей человечностью, непробужденных к естественному миру, недостаточно, чтобы писатели просто демонстрировали свою биофилию. Письмо также должно воспроизводить интенсивность личных отношений.
Одна из форм, которые может принять эта интенсивность — риторическая. Говоря о себе, я гораздо охотнее прочту эссе, которое начинается «Я ненавижу природу», чем то, которое начинается «Я люблю природу». Я надеялся бы, конечно, что писатель на самом деле не ненавидит природу, по крайней мере не полностью. Но посмотрите, чего достигает первоначальная провокация. Хотя она рискует оттолкнуть уже убежденных, она открывает дверь для скептически настроенных читателей и устанавливает с ними связь. Если затем эссе открывает себя как аргумент в пользу природы, «начальный залп» также гарантирует, что написанный текст будет динамичным: движение от точки А к очень отличной точке Б. Такое движение доставит удовольствие читателю.
Сильные убеждения приятны, даже при отсутствии продвижения вперед. Дайте мне жгучую прозу Джой Уильямс в «Охотничьей игре», обличительную речь против охотников и их культуры, или «Почему нужно отказаться от детей», столь же яростное выступление против рождаемости, какое вы когда-либо прочтете, в великолепно озаглавленном сборнике «Злая природа». Безразличие, а не активная враждебность, представляет наибольшую угрозу для естественного мира. И пусть вы считаете Уильямс забавной или невменяемой, героической или несправедливой, к ее работе невозможно оставаться равнодушным.
Или возьмите «Пустынное одиночество» Эдварда Эбби, рассказ о его годах в пустыне Юта, где он раздувает тлеющее торообразное человеконенавистничество в бело-горячий огонь и обрушивает его на американский потребительский капитализм. Вы можете не согласиться с автором. Вы можете сморщить нос от допущений Эбби о «дикой природе», его непризнанных привилегиях как белого американца. Невозможно отрицать интенсивность авторской позиции. Она придает остроту описаниям пустынного ландшафта и наделяет их целенаправленностью, острием.
Хороший способ достичь ощущения цели, сильного движения от точки А к точке Б — иметь аргумент для изложения. Само наличие литературного произведения ведет к ожиданию аргументации, пусть даже неявного оправдания его существования. И если читателю не предлагается явный аргумент, он или она могут приписать его произведению, чтобы заполнить пустоту. Признаюсь, у меня возникала сварливая мысль, пока я читал рассказ о чьем-то визите в экзотическое место вроде Борнео, что из него следует вывод, будто у писателя превосходная чувствительность к природе или удача попасть в такое место.
Наверняка это был непроизвольный аргумент. Но избежать аргументации «Восхищайся мной» или «Завидуй мне» требует большего внимания к тону голоса, чем можно думать. В отличие от проповедника, ходящего от двери к двери и благостно заявляющего, что он спасен, стилистически беспомощный писатель не видит, как перед ним закрываются двери. Но двери есть, и необращенные читатели их закрывают.
Хотя некоторые из Псалмов запоминающиеся («Господь — Пастырь мой»), в основном они невероятно однообразны. Снова и снова припев: жизнь полна испытаний, но Бог рядом. Чтобы наслаждаться Псалмами, оценить нюансы преданности, которые они выражают, нужно быть верующим. Нужно любить Бога, чего у меня не было. И так я отложил книгу в сторону.
Лишь позже, когда я полюбил птиц, я понял, что моя проблема с Псалмами заключалась не просто в отсутствии веры. Более глубокой проблемой был их жанр. Исходя из радости, которую я ежедневно испытываю, наблюдая золотистых щеглов в моей птичьей кормушке или слыша возбужденного крапивника за забором, я могу представить радость, которую верующий находит в Боге.
Радость может быть крепкой или мягкой, но это всегда радость: расцветание в сердце. Миру и самому факту бытия живым в нем. И так я человек, на которого псалом птицам, письменное прославление их славы, оказывает такой же эффект, какой библейский псалом оказывает на верующего. В конце концов, и псалмопевец, и я испытываем одну и ту же радость. А другие любители птиц сообщают, что их восхищает орнитологический лиризм; книги вроде «Сапсана» Дж. А. Бейкера.
Многие люди, которых я уважаю, настоятельно рекомендовали мне «Сапсана». Но каждый раз, когда я пытаюсь его прочесть, я увязаю в описании ландшафта, в котором Бейкер изучал сапсанов. Сам Бейкер признает препятствие — «Подробные описания скучны» — предлагая при этом страницу за страницей однообразного описательного чтения. Дальше — когда Бейкер превозносит возможности сапсанов и пытается понять, каково быть одним из них — книга становится более читабельной. Даже тогда, однако, главным стремление писателя становится вот что: вызвать во мне нетерпение самому оказаться на природе и увидеть сапсанов.
Иногда я рассматриваю как недостаток, признак писательской конкуренции. В том смысле, что я гораздо охотнее испытываю частную радость от птиц и природы вообще, чем читаю о них книгу другого человека. Но как писатель я также помню, что мы живем в мире, где природа быстро исчезает из повседневной жизни.
Есть неотложная потребность заинтересовать неверующих природой, подтолкнуть их к заботе о том, что осталось от нечеловеческого мира. Я не могу не подозревать, что они разделяют мою аллергию на гимны преданности. Сила Библии как текста проистекает из ее историй. Если бы я был проповедником, ходящим от двери к двери, я бы держался подальше от Псалмов. Я бы начал с фактов, как я их вижу: Бог создал вселенную, мы, люди, грешим против Его законов, и Иисус был послан искупить нас, со значимыми последствиями. Каждый, верующий и неверующий, наслаждается хорошей историей. И так, мне кажется, что первое правило евангелистской натуралистической литературы должно быть: Расскажи одну (историю).
Почти вся натуралистическая литература рассказывает какую-то историю. Писатель отправляется в прекрасное местное болото или в нетронутый лес, видит красоту, ощущает разницу в течении времени, чувствует связь с более глубокой историей или более обширной паутиной жизни, продолжает путь, видит орлана, слышит гагару: это, технически, повествование. Если затем у писателя ломается нога или его тревожит медведь-гризли с медвежатами, это может превратиться в интересную историю. Гораздо чаще, однако, повествование остается не более чем формальностью, возможностью для размышления и описания. Природа приводит в восторг писателя, и он надеется передать эту радость другим. Желает донести до читателя детали того, что вызвало эту радость.
К сожалению, независимо от того, насколько удачны описания природы, писатель конкурирует с другими медиа, к которым читатель мог бы обратиться — аудиовизуальными медиа, которые действительно показывают вам орлана или позволяют услышать гарару. С тех пор как появились цветная фотография и звукозапись, длинные описания стали проблематичны во всех жанрах литературы, и они особенно проблематичны для проповедующего, пищущего о природе, писателя. Чтобы хорошо описать сцену природы, писателю трудно избежать терминологии, чуждой читателям, которые еще не были свидетелями подобной сцены.
Будучи наблюдателем птиц, я знаю, как звучит рубиновоголовый королек; если написать, что королек чирикает в иве, я могу ясно услышать этот звук. Сами слова «рубиновоголовый королек» образны для меня и волнуют меня. Я с жадностью прочту неприкрашенный список видов — краснощекий бюльбюль, лазоревка обыкновенная, серая мухоловка, — которых мой друг увидел во время утренней прогулки. Для меня этот список сам по себе повествование. Для необращенного читателя, однако, список мог бы звучать примерно так: Ира сын Иккеша из Текоа, Авиезер из Анафофа, Мевуннай Хушатянин...
Если птицы — фокус писателя, конечно, существуют хорошие истории об отдельных птицах (краснохвостые ястребы Центрального парка) и отдельных видах (непрерывный транстихоокеанский полет берингийских песочников). И я могу сказать, судя по ссылкам на новости о птицах, которые мои не наблюдающие за птицами друзья постоянно пересылают мне, что сообщения об удивительных птичьих подвигах могут преодолеть общественное равнодушие к птицам, по крайней мере на мгновение. Приводят ли такие истории к обращению — а я скажу здесь прямо: я заинтересован в обращении не влюбленных в птиц людей — менее очевидно. Мир изобилует вещами, вызывающими любопытство.
Писатель о птицах и об орнитологии болезненно осознает, что у него есть лишь несколько сотен слов, чтобы зацепить неспециалиста-читателя. Один соблазнительный подход к этой проблеме — начать in medias res, у костра в живописном или пустынном месте, и познакомить нас с Исследователем. У него будет кудрявая борода, и он будет играть на мандолине. Или девушка-исследователь влюбится в птиц на ферме своего деда в Кентукки. Он или она будут жесткими и одержимыми, иногда смешными, всегда восхитительными.
Опасность такого подхода заключается в том, что если Исследователь не выступит как истинный предмет материала, мы, читатели, можем почувствовать себя одураченными: приглашенными поверить, что читаем историю о людях, хотя на самом деле история о птице. В таком случае справедливо спросить, зачем нам вообще потребовалось знакомство с Исследователем.
Парадокс натуралистической литературы заключается в том, что для успеха как проповеди она не может быть только о природе. Э.О. Уилсон, возможно, был прав, приводя биофилию — любовь к природе — как всеобщую черту человеческих существ. Судя по состоянию планеты, однако, это качество выражается слишком редко. Что чаще всего активизирует его — это демонстрация людей, у которых это качество уже «активно».
По моему опыту, если спросить группу наблюдателей птиц, что привлекло их к птицам, четверо из пяти упомянут родителя, учителя, близкого друга — кого-то, с кем у них была интенсивная личная связь. Но верных немного, неубежденных много. Чтобы достичь читателей, полностью поглощенных своей человечностью, непробужденных к естественному миру, недостаточно, чтобы писатели просто демонстрировали свою биофилию. Письмо также должно воспроизводить интенсивность личных отношений.
Одна из форм, которые может принять эта интенсивность — риторическая. Говоря о себе, я гораздо охотнее прочту эссе, которое начинается «Я ненавижу природу», чем то, которое начинается «Я люблю природу». Я надеялся бы, конечно, что писатель на самом деле не ненавидит природу, по крайней мере не полностью. Но посмотрите, чего достигает первоначальная провокация. Хотя она рискует оттолкнуть уже убежденных, она открывает дверь для скептически настроенных читателей и устанавливает с ними связь. Если затем эссе открывает себя как аргумент в пользу природы, «начальный залп» также гарантирует, что написанный текст будет динамичным: движение от точки А к очень отличной точке Б. Такое движение доставит удовольствие читателю.
Сильные убеждения приятны, даже при отсутствии продвижения вперед. Дайте мне жгучую прозу Джой Уильямс в «Охотничьей игре», обличительную речь против охотников и их культуры, или «Почему нужно отказаться от детей», столь же яростное выступление против рождаемости, какое вы когда-либо прочтете, в великолепно озаглавленном сборнике «Злая природа». Безразличие, а не активная враждебность, представляет наибольшую угрозу для естественного мира. И пусть вы считаете Уильямс забавной или невменяемой, героической или несправедливой, к ее работе невозможно оставаться равнодушным.
Или возьмите «Пустынное одиночество» Эдварда Эбби, рассказ о его годах в пустыне Юта, где он раздувает тлеющее торообразное человеконенавистничество в бело-горячий огонь и обрушивает его на американский потребительский капитализм. Вы можете не согласиться с автором. Вы можете сморщить нос от допущений Эбби о «дикой природе», его непризнанных привилегиях как белого американца. Невозможно отрицать интенсивность авторской позиции. Она придает остроту описаниям пустынного ландшафта и наделяет их целенаправленностью, острием.
Хороший способ достичь ощущения цели, сильного движения от точки А к точке Б — иметь аргумент для изложения. Само наличие литературного произведения ведет к ожиданию аргументации, пусть даже неявного оправдания его существования. И если читателю не предлагается явный аргумент, он или она могут приписать его произведению, чтобы заполнить пустоту. Признаюсь, у меня возникала сварливая мысль, пока я читал рассказ о чьем-то визите в экзотическое место вроде Борнео, что из него следует вывод, будто у писателя превосходная чувствительность к природе или удача попасть в такое место.
Наверняка это был непроизвольный аргумент. Но избежать аргументации «Восхищайся мной» или «Завидуй мне» требует большего внимания к тону голоса, чем можно думать. В отличие от проповедника, ходящего от двери к двери и благостно заявляющего, что он спасен, стилистически беспомощный писатель не видит, как перед ним закрываются двери. Но двери есть, и необращенные читатели их закрывают.
В отличие от проповедника, ходящего от двери к двери и благостно заявляющего, что он спасен, стилистически беспомощный писатель не видит, как перед ним закрываются двери. Но двери есть, и необращенные читатели их закрывают.
Часто, выдвигая аргумент, можно обойти проблему тона. Дорогой мне сборник очерков «Тропическая природа» Эдриана Форсайта и Кена Мияты начинается с изложения фактов о тропических дождевых лесах. Факты кажутся нейтральными, но складываются в утверждение: дождевой лес более разнообразен, менее плодороден, здесь меньше дождей, лес более коварно враждебен, чем «джунгли». Это очень простое утверждение. И тем не менее, сразу же появляется повод для аргументации в последующих очерках — дальнейшие ожидания, которые нужно опровергнуть, новые изумления, которые предстоит раскрыть.
Будучи связанными с аргументом, научные факты гораздо убедительнее говорят о славе тропической природы, чем лирические впечатления. А между тем Форсайт и Мията как нейтральные носители факта остаются невосприимчивы к подозрениям в свой адрес: их могут обвинить в стремлении к восхищению. Автор бестселлера «Гениальность птиц» Дженнифер Аккерман также проста и крепка в своем логлайне к книге: «птичий мозг» должен быть комплиментом, а не оскорблением» — пишет автор.
Книга Ричарда Прама 2017 года «Эволюция красоты» достигла широкой аудитории, утверждая, что дарвиновская теория полового отбора, которую мейнстрим эволюционных биологов игнорировал или уничижал более века, может объяснить всевозможные неадаптивные черты и поведение животных. У книги Прама есть недостатки — клейкая манера повествования, плюс теория Дарвина, возможно, была не совсем забыта, как он себе представляет. Но эти недостатки не имели для меня значения. Теория полового отбора стала откровением, и я узнал много интересного о группе тропических птиц манакинов, о которых иначе, возможно, никогда бы не узнал. Такова сила убедительного аргумента.
Для писателя-натуралиста, который не является ни полемистом, ни ученым, третий путь к выразительности — рассказать историю, в которой фокус отнюдь на природе. Рассказать историю, в которой драматические ставки решительно человеческие. Показательная в этом отношении книга — «Королек Шоссе» Кенна Кауфмана. Кауфман вырос в пригороде Канзаса в шестидесятых, стал одержимым наблюдателем птиц (прозванным «Королек»), и после того, как бросил школу, замыслил амбицию побить рекорд по количеству видов американских птиц, увиденных за календарный год.
Этот рекорд быстро устанавливается как драматическая цель, координирующее желание протагониста. И тут же нам представляют препятствие: у подростка Кауфмана нет денег. Чтобы посетить все уголки страны в нужное время года, наблюдателю птиц нужно преодолеть огромные расстояния, и Кауфман решает, что ему придется ловить попутки.
Так что теперь, помимо цели и препятствия, у нас есть обещание классического приключения в дороге. Важно отметить, что, точно также, как нам не нужно быть педофилами, чтобы сопереживать преследованию Лолиты Гумбертом, нам не обязательно сильно интересоваться птицами, чтобы любопытствовать, что случится с Кауфманом. Любое сильное желание порождает отклик в читателе.
Пока Кауфман колесит по стране, он, конечно, внимателен к птицам, но также к настроению Америки начала семидесятых, социальной динамике наблюдения птиц, утрате и деградации природных местообитаний, причудливым персонажам на пути. А затем книга принимает прекрасный оборот. Поскольку жизнь в дороге взимает дань с рассказчика, он чувствует себя все более потерянным и одиноким.
Хотя, казалось бы, повествование о поиске, книга раскрывается как история взросления. Поскольку нам небезразличен юный Кауфман, мы перестаем интересоваться, побьет ли он рекорд, и начинаем задавать более универсальные вопросы: Что случится с этим молодым человеком? Найдет ли он дорогу домой?
То, что отличает «Королька Шоссе» от многих других повествований о «Большом годе» — в конце концов перестает иметь значение, сколько видов птиц увидел Кауфман за год. Важны только сами птицы. Они начинают ощущаться как дом, который искал Кауфман, дом, который никогда его не покинет.
Даже если бы мы могли знать, каково быть птицей, и, несмотря на Дж. А. Бейкера, я не думаю, что мы когда-либо действительно сможем, — птица существо инстинкта, движимое желаниями, противоположными личностным, неспособное к этической амбивалентности или сожалению. Для дикого животного драматические ставки состоят в выживании и размножении, и только. Это может показать увлекательную особенность птицы как вида. Но без серьезного очеловечивания или проекции дикое животное просто не обладает особенностью личности, определяемой ее историей и пожеланиями на будущее, на чем основывается хорошее повествование.
С персонажем-диким животным есть только точка А: животное есть то, чем оно было и будет всегда. Чтобы появилась точка Б, пункт назначения драматического путешествия, потребуется только человеческий персонаж. Наиболее эффективная натуралистическая проза помещает человека (часто автора, пишущего от первого лица) в некоторые неразрешенные отношения с естественным миром, снабжает персонажа нерешенными вопросами или недостигнутой целью, а затем привлекает читателя в это путешествие универсальными эмоциями — надеждой, гневом, тоской, разочарованием, стыдом. Если письмо удается, то косвенно.
Мы не можем заставить читателя заботиться о природе. Все, что мы можем — рассказать сильные истории о людях, которым небезразлична природа, и надеяться, что эта забота окажется заразительной.
Будучи связанными с аргументом, научные факты гораздо убедительнее говорят о славе тропической природы, чем лирические впечатления. А между тем Форсайт и Мията как нейтральные носители факта остаются невосприимчивы к подозрениям в свой адрес: их могут обвинить в стремлении к восхищению. Автор бестселлера «Гениальность птиц» Дженнифер Аккерман также проста и крепка в своем логлайне к книге: «птичий мозг» должен быть комплиментом, а не оскорблением» — пишет автор.
Книга Ричарда Прама 2017 года «Эволюция красоты» достигла широкой аудитории, утверждая, что дарвиновская теория полового отбора, которую мейнстрим эволюционных биологов игнорировал или уничижал более века, может объяснить всевозможные неадаптивные черты и поведение животных. У книги Прама есть недостатки — клейкая манера повествования, плюс теория Дарвина, возможно, была не совсем забыта, как он себе представляет. Но эти недостатки не имели для меня значения. Теория полового отбора стала откровением, и я узнал много интересного о группе тропических птиц манакинов, о которых иначе, возможно, никогда бы не узнал. Такова сила убедительного аргумента.
Для писателя-натуралиста, который не является ни полемистом, ни ученым, третий путь к выразительности — рассказать историю, в которой фокус отнюдь на природе. Рассказать историю, в которой драматические ставки решительно человеческие. Показательная в этом отношении книга — «Королек Шоссе» Кенна Кауфмана. Кауфман вырос в пригороде Канзаса в шестидесятых, стал одержимым наблюдателем птиц (прозванным «Королек»), и после того, как бросил школу, замыслил амбицию побить рекорд по количеству видов американских птиц, увиденных за календарный год.
Этот рекорд быстро устанавливается как драматическая цель, координирующее желание протагониста. И тут же нам представляют препятствие: у подростка Кауфмана нет денег. Чтобы посетить все уголки страны в нужное время года, наблюдателю птиц нужно преодолеть огромные расстояния, и Кауфман решает, что ему придется ловить попутки.
Так что теперь, помимо цели и препятствия, у нас есть обещание классического приключения в дороге. Важно отметить, что, точно также, как нам не нужно быть педофилами, чтобы сопереживать преследованию Лолиты Гумбертом, нам не обязательно сильно интересоваться птицами, чтобы любопытствовать, что случится с Кауфманом. Любое сильное желание порождает отклик в читателе.
Пока Кауфман колесит по стране, он, конечно, внимателен к птицам, но также к настроению Америки начала семидесятых, социальной динамике наблюдения птиц, утрате и деградации природных местообитаний, причудливым персонажам на пути. А затем книга принимает прекрасный оборот. Поскольку жизнь в дороге взимает дань с рассказчика, он чувствует себя все более потерянным и одиноким.
Хотя, казалось бы, повествование о поиске, книга раскрывается как история взросления. Поскольку нам небезразличен юный Кауфман, мы перестаем интересоваться, побьет ли он рекорд, и начинаем задавать более универсальные вопросы: Что случится с этим молодым человеком? Найдет ли он дорогу домой?
То, что отличает «Королька Шоссе» от многих других повествований о «Большом годе» — в конце концов перестает иметь значение, сколько видов птиц увидел Кауфман за год. Важны только сами птицы. Они начинают ощущаться как дом, который искал Кауфман, дом, который никогда его не покинет.
Даже если бы мы могли знать, каково быть птицей, и, несмотря на Дж. А. Бейкера, я не думаю, что мы когда-либо действительно сможем, — птица существо инстинкта, движимое желаниями, противоположными личностным, неспособное к этической амбивалентности или сожалению. Для дикого животного драматические ставки состоят в выживании и размножении, и только. Это может показать увлекательную особенность птицы как вида. Но без серьезного очеловечивания или проекции дикое животное просто не обладает особенностью личности, определяемой ее историей и пожеланиями на будущее, на чем основывается хорошее повествование.
С персонажем-диким животным есть только точка А: животное есть то, чем оно было и будет всегда. Чтобы появилась точка Б, пункт назначения драматического путешествия, потребуется только человеческий персонаж. Наиболее эффективная натуралистическая проза помещает человека (часто автора, пишущего от первого лица) в некоторые неразрешенные отношения с естественным миром, снабжает персонажа нерешенными вопросами или недостигнутой целью, а затем привлекает читателя в это путешествие универсальными эмоциями — надеждой, гневом, тоской, разочарованием, стыдом. Если письмо удается, то косвенно.
Мы не можем заставить читателя заботиться о природе. Все, что мы можем — рассказать сильные истории о людях, которым небезразлична природа, и надеяться, что эта забота окажется заразительной.
Джонатан Франзен
писатель
Джонатан Франзен (1959) – один из известнейших американских прозаиков XXI века. Роман «Поправки», вышедший в 2001 году, принес сорокадвухлетнему автору мировую славу. Книга разошлась миллионными тиражами, получила Национальную книжную премию США и была переведена на 35 языков. Следующая книга – «Свобода» (2010) – закрепила за ним титул великого американского романиста.
