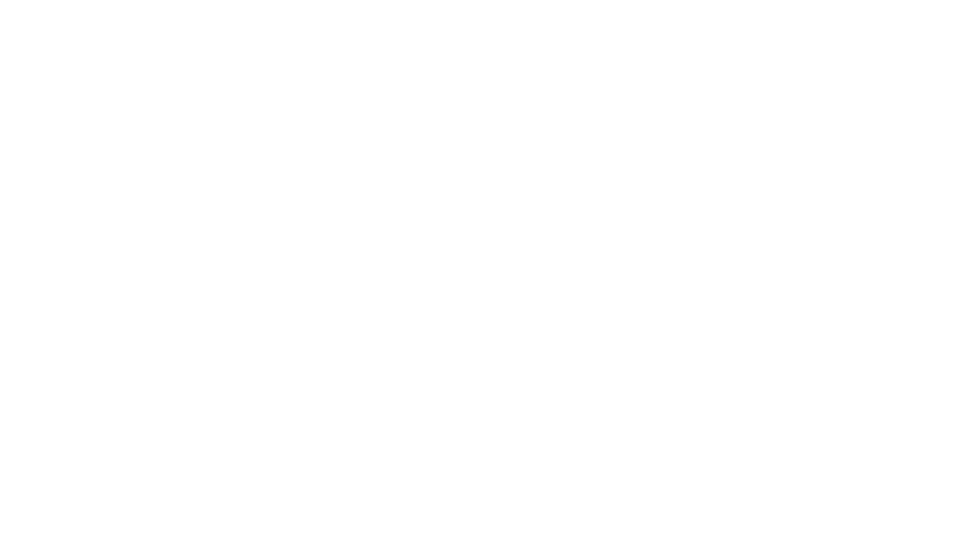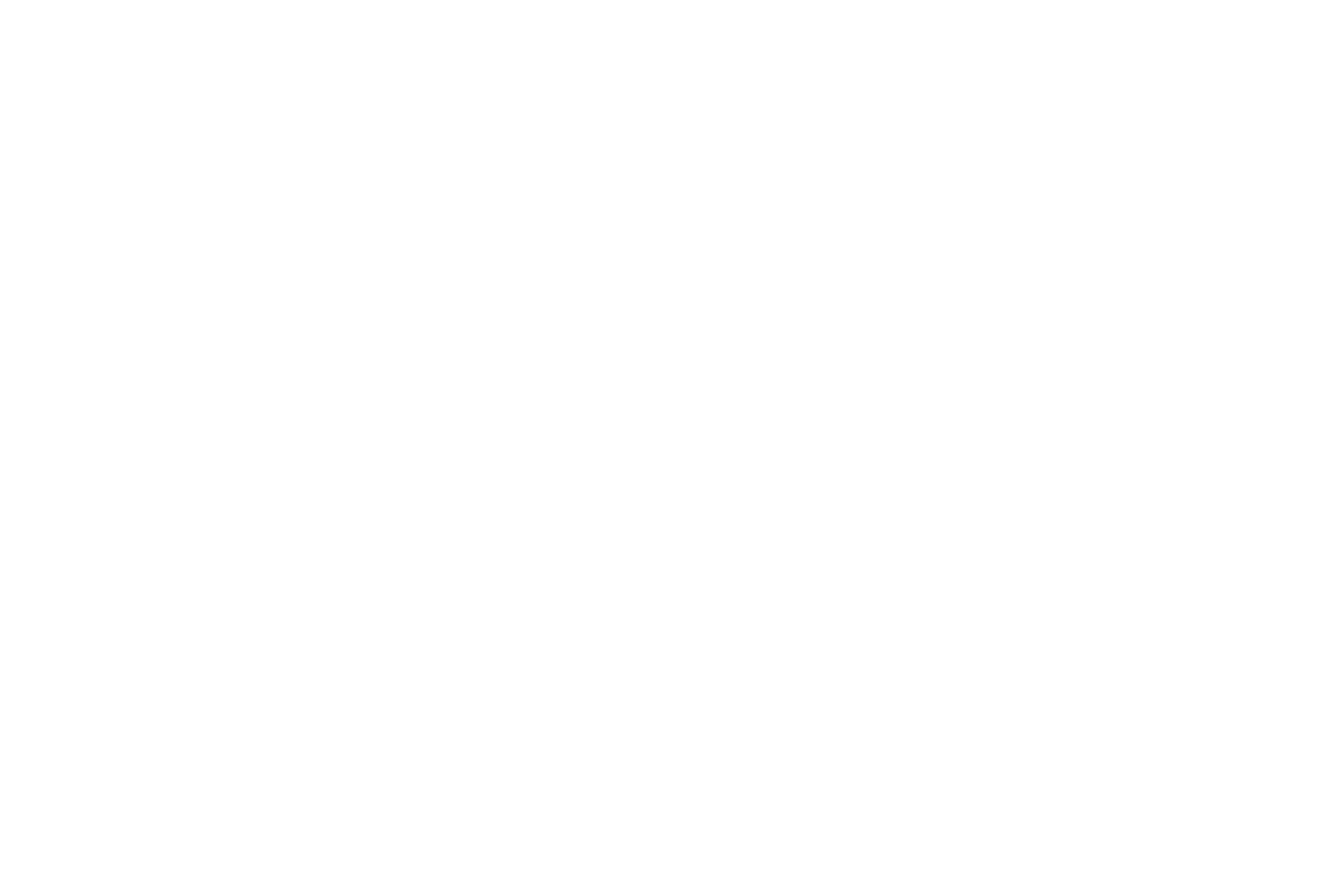
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
«Герой должен быть сам виноват во всем, что с ним происходит»
Андрей Геласимов – о «Чистом кайфе», писательской зависимости, писательских буднях и выходе из герметичной комнаты отчаяния.
– Цитата: «Они твердо знают, что талант это такая ценная штука, что его как всякую ценность можно положить в банковскую ячейку. Положили, потом пришли, когда нужно вынули, поюзали, потом снова пришли». Что все-таки важнее – талант или усилие? Потому что роман «Чистый кайф», как мне показалось, не о том, что у человека есть талант. Роман скорее о том, как герой этот талант выстрадал и своими усилиями добился всего, что он добился.
– Конкретно этот фрагмент, который вы сейчас цитировали, связан не столько с носителем таланта, сколько с окружающими людьми, его близкими. У таких людей, как правило, потребительское отношение, когда рядом оказывается одаренный человек. Все близкие, несмотря на то что они его любят, очень сильно любят этого человека, все равно живут на дивиденды этого таланта.
– А как вы считаете, то саморазрушение, которое происходит с такими действительно творческими, успешными людьми, оно является неотъемлемой частью успеха?
– Да, это так. Но с этим саморазрушением нужно просто как-то наладить контакт... Тут надо аккуратно. Как с алкоголем. Не зря же бога Дионисия изображали в древности едущим на тигре в окружении вакханок с копьями. Алкоголь – это тигр. Собственно говоря, талант, который достался носителю, ровно такой же тигр. Если ты саму идею пьянства, которая заложена в человечестве, не оседлал, то тигр тебя разорвет. Нужно обязательно ехать на тигре верхом.
Есть люди, которые говорят, что принципиально не пьют алкоголь. Человек говорит: «Я слаб, я боюсь». Отчаянные головы все-таки идут знакомиться с Дионисием. Большинство из них гибнет. И на алкоголе, и на наркотиках. Все это их разрушает. Но кое-кому удается оседлать тигра, и тогда ты знаешь, кто такой Дионисий. Оргиастическая природа пьянства абсолютна идентична оргиастической природе одаренности. И в саморазрушении, и в созидательной функции.
– Конкретно этот фрагмент, который вы сейчас цитировали, связан не столько с носителем таланта, сколько с окружающими людьми, его близкими. У таких людей, как правило, потребительское отношение, когда рядом оказывается одаренный человек. Все близкие, несмотря на то что они его любят, очень сильно любят этого человека, все равно живут на дивиденды этого таланта.
– А как вы считаете, то саморазрушение, которое происходит с такими действительно творческими, успешными людьми, оно является неотъемлемой частью успеха?
– Да, это так. Но с этим саморазрушением нужно просто как-то наладить контакт... Тут надо аккуратно. Как с алкоголем. Не зря же бога Дионисия изображали в древности едущим на тигре в окружении вакханок с копьями. Алкоголь – это тигр. Собственно говоря, талант, который достался носителю, ровно такой же тигр. Если ты саму идею пьянства, которая заложена в человечестве, не оседлал, то тигр тебя разорвет. Нужно обязательно ехать на тигре верхом.
Есть люди, которые говорят, что принципиально не пьют алкоголь. Человек говорит: «Я слаб, я боюсь». Отчаянные головы все-таки идут знакомиться с Дионисием. Большинство из них гибнет. И на алкоголе, и на наркотиках. Все это их разрушает. Но кое-кому удается оседлать тигра, и тогда ты знаешь, кто такой Дионисий. Оргиастическая природа пьянства абсолютна идентична оргиастической природе одаренности. И в саморазрушении, и в созидательной функции.
Природа творчества, по сути, вакхична. Поэтому алкоголь – вино, виски, любые спиртные напитки – органично присутствуют в жизни творца: писателя, художника, музыканта.
– У меня в книге «Пиши рьяно, редактируй резво» есть отдельная глава, посвященная алкоголю: «Писатель и алкоголь». В частности, Фицджеральд очень страдал от того, что...
– Да все страдали. Тот же Хемингуэй...
– «Тот, кто промариновал свои мозги алкоголем и растратил» талант – так про старика говорили. У меня возникает вопрос: в какой момент писатель как человек творческий, крайне подверженный воздействию Дионисия, находит в себе баланс между саморазрушением и искренним настоящим творчеством?
– Понимаете, суть в том, что природа творчества, по сути, вакхична. Поэтому алкоголь – вино, виски, любые спиртные напитки – органично присутствуют в жизни творца: писателя, художника, музыканта... Потому что… Еще раз повторяю, природа любого творчества вакхична по сути.
– А вам своего тигра удалось легко оседлать?
– С некоторыми потерями, но удалось. Думаю, что я вместе с Дионисием еду на тигре. Я не отказываюсь от спиртного, и есть такое ощущение, что и оно не отказывается от меня. Но во всяком случае у нас какие-то... Скажем так, мы достигли паритета во взаимном уважении. Это точно. И оно знает, что меня уже не сожрать. Я мальчик взрослый. Но я вижу много примеров, когда люди гибнут.
– Вернемся к «Чистому кайфу»… Для вас этот роман о чем? Ведь если открыть последнюю страницу, складывается четкое понимание, что это книга о важности семьи в жизни человека.
– Ну конечно! Поэтому она и называется «Чистый кайф».
– Какова основная идея этого романа?
– Что человек, во-первых, способен справиться со страшнейшей вакхической природой – творческой. А еще с зависимостью. В данном случае химической зависимостью, это даже не алкогольная зависимость, это гораздо страшнее.
– Да все страдали. Тот же Хемингуэй...
– «Тот, кто промариновал свои мозги алкоголем и растратил» талант – так про старика говорили. У меня возникает вопрос: в какой момент писатель как человек творческий, крайне подверженный воздействию Дионисия, находит в себе баланс между саморазрушением и искренним настоящим творчеством?
– Понимаете, суть в том, что природа творчества, по сути, вакхична. Поэтому алкоголь – вино, виски, любые спиртные напитки – органично присутствуют в жизни творца: писателя, художника, музыканта... Потому что… Еще раз повторяю, природа любого творчества вакхична по сути.
– А вам своего тигра удалось легко оседлать?
– С некоторыми потерями, но удалось. Думаю, что я вместе с Дионисием еду на тигре. Я не отказываюсь от спиртного, и есть такое ощущение, что и оно не отказывается от меня. Но во всяком случае у нас какие-то... Скажем так, мы достигли паритета во взаимном уважении. Это точно. И оно знает, что меня уже не сожрать. Я мальчик взрослый. Но я вижу много примеров, когда люди гибнут.
– Вернемся к «Чистому кайфу»… Для вас этот роман о чем? Ведь если открыть последнюю страницу, складывается четкое понимание, что это книга о важности семьи в жизни человека.
– Ну конечно! Поэтому она и называется «Чистый кайф».
– Какова основная идея этого романа?
– Что человек, во-первых, способен справиться со страшнейшей вакхической природой – творческой. А еще с зависимостью. В данном случае химической зависимостью, это даже не алкогольная зависимость, это гораздо страшнее.
* * *
Помимо работы истопника в монастырской бане сибиряк иногда помогал деревенским по строительству. В Сибири своей до этого он был прорабом.
— Вот люди смерти боятся,— заговорил он как только мы вышли из монастырских ворот. — А почему? Да потому что не знают. Даже про себя самих ничего не знают, куда уж про смерть. Один родился, чтобы им восхищались, другой — чтоб боялись, третьим гордятся, четвертый —просто на радость людям живет, пятого жалеют, шестой нужен, чтобы всех остальных жаба от зависти душила, а седьмой — для всеобщего осмеяния. У всех своя линия, все разные, и все Богу зачем-то годны. Но нет, у нас тут у каждого вопросы возникают — почему этому больше досталось, этому меньше, а я, вообще, весь плюгавенький получился. Ну и злоба на мир от этого. Потому с жизнью примирения нет. А раз к жизни ключей не нашлось, то к смерти-то и подавно. Жить муторно, обидно, тяжело, но умирать все равно неохота. От того и воют, если вдруг помер кто.
Я шел рядом по заросшей, нехоженой дороге и слушал его голос. Смысл до меня доходил, но я больше прислушивался к тону и ритму. Судя по флоу, у чувака накипело.
— Нет, ну, понятно — когда у людей горе, тут и не захочешь, а взвоешь, но пока жизнь сама по себе идет — чего печалиться-то? Чего грустить, что она закончится? Дети вон, представь себе, придут на свою площадку — ну вот где у них карусельки разные, качельки — и вдруг задумаются, что в конце-то концов по-всякому придется уйти, вот из этого ихнего рая. И вместо того, чтоб играть, чтоб со своих горок кататься, бегать, прыгать и… я не знаю там… радоваться — сядут они в углу и начнут выть от того, что скоро их отсюдова заберут. И так и проплачут все свое время вместо того, чтобы веселиться. Вот он, страх-то, с людьми чего делает. Непонятная вещь.
— Ты, по ходу, действительно долго молчал, —сказал я, когда он наконец перевел дух.
Сибиряк ответил не сразу. Минуту или две мы шагали, позвякивая его инструментами в ящиках, а потом он вздохнул.
— У меня сын в Чечне погиб. В девяносто пятом призвали, а через полгода запаянный гроб привезли… Такой вот как ты был. Рэпом тоже этим вашим… увлекался.
Дальше до деревни шли молча.
Андрей Геласимов, «Чистый кайф». «Городец», 2019
— Вот люди смерти боятся,— заговорил он как только мы вышли из монастырских ворот. — А почему? Да потому что не знают. Даже про себя самих ничего не знают, куда уж про смерть. Один родился, чтобы им восхищались, другой — чтоб боялись, третьим гордятся, четвертый —просто на радость людям живет, пятого жалеют, шестой нужен, чтобы всех остальных жаба от зависти душила, а седьмой — для всеобщего осмеяния. У всех своя линия, все разные, и все Богу зачем-то годны. Но нет, у нас тут у каждого вопросы возникают — почему этому больше досталось, этому меньше, а я, вообще, весь плюгавенький получился. Ну и злоба на мир от этого. Потому с жизнью примирения нет. А раз к жизни ключей не нашлось, то к смерти-то и подавно. Жить муторно, обидно, тяжело, но умирать все равно неохота. От того и воют, если вдруг помер кто.
Я шел рядом по заросшей, нехоженой дороге и слушал его голос. Смысл до меня доходил, но я больше прислушивался к тону и ритму. Судя по флоу, у чувака накипело.
— Нет, ну, понятно — когда у людей горе, тут и не захочешь, а взвоешь, но пока жизнь сама по себе идет — чего печалиться-то? Чего грустить, что она закончится? Дети вон, представь себе, придут на свою площадку — ну вот где у них карусельки разные, качельки — и вдруг задумаются, что в конце-то концов по-всякому придется уйти, вот из этого ихнего рая. И вместо того, чтоб играть, чтоб со своих горок кататься, бегать, прыгать и… я не знаю там… радоваться — сядут они в углу и начнут выть от того, что скоро их отсюдова заберут. И так и проплачут все свое время вместо того, чтобы веселиться. Вот он, страх-то, с людьми чего делает. Непонятная вещь.
— Ты, по ходу, действительно долго молчал, —сказал я, когда он наконец перевел дух.
Сибиряк ответил не сразу. Минуту или две мы шагали, позвякивая его инструментами в ящиках, а потом он вздохнул.
— У меня сын в Чечне погиб. В девяносто пятом призвали, а через полгода запаянный гроб привезли… Такой вот как ты был. Рэпом тоже этим вашим… увлекался.
Дальше до деревни шли молча.
Андрей Геласимов, «Чистый кайф». «Городец», 2019
– Процитирую героя романа: «Бывших наркоманов не бывает».
– Бывших не бывает. Это любой наркоман скажет. И трек Васи (Василий Вакуленко, он же Баста. – Прим. ред.) «Только сегодня» говорит нам об этом. Говорит: «Только сегодня я не употребляю». Значит, роман об этом, о победе над демонами. Они ушли. Да над вакхической природой. В качестве компенсации за эту победу человек действительно получает очень важные жизненные ценности, которые включают в себя и семейные ценности. Потому что, собственно говоря, помимо победы над вакхизмом, в нас всегда бушует серьезная проблема одиночества. Победа над одиночеством не менее важна, чем победа над тем тигром.
– Считаете ли вы творчество такой зависимостью. Такой же наркоманией? Ну вот конкретно писательство?
– Конечно да. Поскольку мы уже с вами сказали, что природа творчества вакхическая, следовательно, и зависимость ровно такая же. Конечно да. Соскочить с этого всего… Если ты правильно вошел и знаешь, как скакать на тигре… Хотя не думаю, что кто-то, во-первых, согласится прекратить, а во-вторых, что это возможно. Потому что если ты спрыгнешь с тигра, он тебя разорвет. Обернется, поймет, что ты больше не верхом, не руководишь процессом, и твое средство передвижения тебя сожрет.
– Что значит правильно войти в писательство?
– Надо идти навстречу огню. Ты должен рисковать. Я знаю примеры простого писательства, когда люди, технически, механически изучив принципы, скажем, сюжетостроения, работы с персонажем, языком, складывают хорошие вещи. Но это никогда не будет подлинным искусством. Никогда не будет огнем. Это будут хорошие писатели третьего ряда. В первый ряд выходят люди, которые рискнули. Да, нужно идти навстречу огню. Ставки очень высоки. И самая главная из них – это самооценка. Понимание и осознание собственной значимости. Я своим студентам в литинституте говорю: прежде чем вы начали выстраивать характер, вы должны подумать о том, как герой решает вопрос собственной значимости. Прямо по шкале. Я им эту шкалу нарисовал. Посмотрите налево: здесь очень интересный персонаж, который занижает собственную значимость, с ним интересно работать. Это Макар Девушкин, персонаж романа «Бедные люди» Достоевского, Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя. Заниженная самооценка – это когда герой говорит: «Я дно, я ростовское днище».
А затем очень интересно следить, как слайдер скользит по шкале этой самооценки, и она может уйти в суперзавышенную. Тогда тоже беда. Тогда у нас получается Родион Романыч Раскольников. Как персонаж он очень интересен. Найти баланс, центр, равновесие – вот это, собственно, задача даже не персонажа, а автора по отношению к самому себе. Игра с движением этого ползунка – от наименьшей собственной значимости к наибольшей собственной значимости – и представляет самый главный риск и интерес. Потому что на краях шкалы люди спиваются, стреляются, прыгают с крыш, бросают семьи из-за того, что не попали этим ползунком в тот слот, который им предназначен богом.
– А вы считаете писателя богом, который двигает этот ползунок, или же герои сами в тот момент, когда история начинает крутиться, это делают? И все выходит из-под контроля, и писатель становится наблюдателем этого процесса. Или он все же создатель?
– Дихотомичный процесс. Сама конструкция дихотомична. Потому что в некотором роде ты должен контролировать какие-то вещи, но если персонажи не обладают собственной волей, то это тоже плохо. Поэтому здесь тоже игра в два конца. По тем и другим воротам вы бьете своим мячом. Точно так же, как и в пьянстве.
– Бывших не бывает. Это любой наркоман скажет. И трек Васи (Василий Вакуленко, он же Баста. – Прим. ред.) «Только сегодня» говорит нам об этом. Говорит: «Только сегодня я не употребляю». Значит, роман об этом, о победе над демонами. Они ушли. Да над вакхической природой. В качестве компенсации за эту победу человек действительно получает очень важные жизненные ценности, которые включают в себя и семейные ценности. Потому что, собственно говоря, помимо победы над вакхизмом, в нас всегда бушует серьезная проблема одиночества. Победа над одиночеством не менее важна, чем победа над тем тигром.
– Считаете ли вы творчество такой зависимостью. Такой же наркоманией? Ну вот конкретно писательство?
– Конечно да. Поскольку мы уже с вами сказали, что природа творчества вакхическая, следовательно, и зависимость ровно такая же. Конечно да. Соскочить с этого всего… Если ты правильно вошел и знаешь, как скакать на тигре… Хотя не думаю, что кто-то, во-первых, согласится прекратить, а во-вторых, что это возможно. Потому что если ты спрыгнешь с тигра, он тебя разорвет. Обернется, поймет, что ты больше не верхом, не руководишь процессом, и твое средство передвижения тебя сожрет.
– Что значит правильно войти в писательство?
– Надо идти навстречу огню. Ты должен рисковать. Я знаю примеры простого писательства, когда люди, технически, механически изучив принципы, скажем, сюжетостроения, работы с персонажем, языком, складывают хорошие вещи. Но это никогда не будет подлинным искусством. Никогда не будет огнем. Это будут хорошие писатели третьего ряда. В первый ряд выходят люди, которые рискнули. Да, нужно идти навстречу огню. Ставки очень высоки. И самая главная из них – это самооценка. Понимание и осознание собственной значимости. Я своим студентам в литинституте говорю: прежде чем вы начали выстраивать характер, вы должны подумать о том, как герой решает вопрос собственной значимости. Прямо по шкале. Я им эту шкалу нарисовал. Посмотрите налево: здесь очень интересный персонаж, который занижает собственную значимость, с ним интересно работать. Это Макар Девушкин, персонаж романа «Бедные люди» Достоевского, Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя. Заниженная самооценка – это когда герой говорит: «Я дно, я ростовское днище».
А затем очень интересно следить, как слайдер скользит по шкале этой самооценки, и она может уйти в суперзавышенную. Тогда тоже беда. Тогда у нас получается Родион Романыч Раскольников. Как персонаж он очень интересен. Найти баланс, центр, равновесие – вот это, собственно, задача даже не персонажа, а автора по отношению к самому себе. Игра с движением этого ползунка – от наименьшей собственной значимости к наибольшей собственной значимости – и представляет самый главный риск и интерес. Потому что на краях шкалы люди спиваются, стреляются, прыгают с крыш, бросают семьи из-за того, что не попали этим ползунком в тот слот, который им предназначен богом.
– А вы считаете писателя богом, который двигает этот ползунок, или же герои сами в тот момент, когда история начинает крутиться, это делают? И все выходит из-под контроля, и писатель становится наблюдателем этого процесса. Или он все же создатель?
– Дихотомичный процесс. Сама конструкция дихотомична. Потому что в некотором роде ты должен контролировать какие-то вещи, но если персонажи не обладают собственной волей, то это тоже плохо. Поэтому здесь тоже игра в два конца. По тем и другим воротам вы бьете своим мячом. Точно так же, как и в пьянстве.
– Согласен абсолютно. И снова о «Чистом кайфе». Текст создает обманчивое впечатление, что это очень легко читающийся материал.
– Я всегда пользуюсь этим приемом.
– У меня закономерный вопрос: насколько тяжело писался этот текст?
– Очень тяжело. Наиболее простые тексты для восприятия среднестатистическим обывателем чаще всего требовали огромного адского труда. Простоты достичь крайне трудно.
– Сколько редакций романа было написано?
– Хм… Думаю, я написал восемь-девять вариантов. Ну смотрите… Давайте еще поговорим о простоте. Писатель Вильям Шекспир выражается очень просто. Вдруг один из его героев говорит: «Ад пуст. Все бесы здесь». Это жесть. Это так просто сформулировано, так коротко, но ты понимаешь, что происходит. Когда герой смотрит на окружающих и говорит: «Ад пуст. Все бесы здесь». И все всё сразу понимают. Я за такую простоту.
– Вам тяжело добывать эту простоту в своих текстах? Или с опытом становится проще?
– Сначала было очень тяжело. У меня филологическое образование, потом добавилось режиссерское образование «ГИТИСа», затем я написал кандидатскую диссертацию, и из-за этого на меня напластовалось очень много слоев информации. Она очень важна для становления художника и человека тоже. Эта вся эрудиция. Вы знаете, в каком веке жил Катул, и можете хотя бы процитировать пару его стихотворений. Но неизбежен искус в начале пути, когда всем этим овладел, тащить все в тексты. Потому что это тоже смещение ползунка с собственной значимости. Я же умный, говорите вы себе, и тащите все. И Кьеркегора притащили, и Барта, и всех-всех-всех. И Бахтин там у вас прозвучал, вы заложили в текст скрытые цитаты. И это по сути все то, чем увлекается современная литература.
– Насколько сложно убивать своих младенцев и вырезать эти пласты из текста? Вот, кажется, такой классный кусок, но ты знаешь, что это лишний жир, который надо убить.
– Раньше было очень тяжело. Когда поначалу писал, то писал очень сложно, усложненными конструкциями и тащил в текст весь свой багаж, который накопил. Могу сейчас в профессорской аудитории поддержать любую академическую беседу о разных эпохах литературоведения. Но когда все это тащат в текст мои коллеги, я улыбаюсь, потому что художник должен, скажем так, выйти из этой комнаты. Ведь подлинное творчество не в этой комнате, а в другой. Здесь у вас как бы склад. Тут вы собрали все свои плюшки, ништяки, знания. Это прекрасно. Но если вы здесь и останетесь, то будете скупым рыцарем, перебирающим сокровища. Вы станете архивариусом. И этих архивариусов среди своих коллег и любимых мною друзей писателей я вижу много. Их примерно 90 %. Выйти из этой комнаты, закрыть ее на ключ и пойти в совершенно другое пространство – это задача писателя. Вот тогда вы начинаете работать в художественной плоскости. И таких авторов очень немного.
– Я вспоминаю Хемингуэя, который говорил об айсберге. 1/8 на поверхности, а 7/8 собранного материала – то, что не входит в текст. Хемингуэй как-то сказал: «Я бы мог написать «Старик и море» на тысячу страниц, описать каждого жителя деревни...»
– Слава богу, что он этого не сделал. Потому что все это присутствует в тексте. Присутствует в его фигурах умолчания. Потому что большой художник все-таки может говорить без слов.
– А есть ли какой-то рецепт или секрет, как можно научиться говорить без слов?
– Нужно выйти из комнаты, где сидит архивариус, который и есть вы.
– По моему ощущению, если возвращаться к «Чистому кайфу», вот эта несказанность, она определяется драматургией повествования. Все ваши тексты, которые я прочел, очень хорошо и классно читаются. И возникает совершенно четкое понимание, что у вас большой сценарный, драматургический, театральный багаж, и вы знаете, как развивать действие, двигать историю.
– Ну да, я это умею. Если же говорить про склад, то не стоит запирать комнату на ключ, а ключ выбрасывать. Нет, ни в коем случае. На склад обязательно нужно заходить. Просто это надо делать не в те моменты, когда вы работаете над текстом. При этом повторюсь: сбор материала для романа необходим.
– Я всегда пользуюсь этим приемом.
– У меня закономерный вопрос: насколько тяжело писался этот текст?
– Очень тяжело. Наиболее простые тексты для восприятия среднестатистическим обывателем чаще всего требовали огромного адского труда. Простоты достичь крайне трудно.
– Сколько редакций романа было написано?
– Хм… Думаю, я написал восемь-девять вариантов. Ну смотрите… Давайте еще поговорим о простоте. Писатель Вильям Шекспир выражается очень просто. Вдруг один из его героев говорит: «Ад пуст. Все бесы здесь». Это жесть. Это так просто сформулировано, так коротко, но ты понимаешь, что происходит. Когда герой смотрит на окружающих и говорит: «Ад пуст. Все бесы здесь». И все всё сразу понимают. Я за такую простоту.
– Вам тяжело добывать эту простоту в своих текстах? Или с опытом становится проще?
– Сначала было очень тяжело. У меня филологическое образование, потом добавилось режиссерское образование «ГИТИСа», затем я написал кандидатскую диссертацию, и из-за этого на меня напластовалось очень много слоев информации. Она очень важна для становления художника и человека тоже. Эта вся эрудиция. Вы знаете, в каком веке жил Катул, и можете хотя бы процитировать пару его стихотворений. Но неизбежен искус в начале пути, когда всем этим овладел, тащить все в тексты. Потому что это тоже смещение ползунка с собственной значимости. Я же умный, говорите вы себе, и тащите все. И Кьеркегора притащили, и Барта, и всех-всех-всех. И Бахтин там у вас прозвучал, вы заложили в текст скрытые цитаты. И это по сути все то, чем увлекается современная литература.
– Насколько сложно убивать своих младенцев и вырезать эти пласты из текста? Вот, кажется, такой классный кусок, но ты знаешь, что это лишний жир, который надо убить.
– Раньше было очень тяжело. Когда поначалу писал, то писал очень сложно, усложненными конструкциями и тащил в текст весь свой багаж, который накопил. Могу сейчас в профессорской аудитории поддержать любую академическую беседу о разных эпохах литературоведения. Но когда все это тащат в текст мои коллеги, я улыбаюсь, потому что художник должен, скажем так, выйти из этой комнаты. Ведь подлинное творчество не в этой комнате, а в другой. Здесь у вас как бы склад. Тут вы собрали все свои плюшки, ништяки, знания. Это прекрасно. Но если вы здесь и останетесь, то будете скупым рыцарем, перебирающим сокровища. Вы станете архивариусом. И этих архивариусов среди своих коллег и любимых мною друзей писателей я вижу много. Их примерно 90 %. Выйти из этой комнаты, закрыть ее на ключ и пойти в совершенно другое пространство – это задача писателя. Вот тогда вы начинаете работать в художественной плоскости. И таких авторов очень немного.
– Я вспоминаю Хемингуэя, который говорил об айсберге. 1/8 на поверхности, а 7/8 собранного материала – то, что не входит в текст. Хемингуэй как-то сказал: «Я бы мог написать «Старик и море» на тысячу страниц, описать каждого жителя деревни...»
– Слава богу, что он этого не сделал. Потому что все это присутствует в тексте. Присутствует в его фигурах умолчания. Потому что большой художник все-таки может говорить без слов.
– А есть ли какой-то рецепт или секрет, как можно научиться говорить без слов?
– Нужно выйти из комнаты, где сидит архивариус, который и есть вы.
– По моему ощущению, если возвращаться к «Чистому кайфу», вот эта несказанность, она определяется драматургией повествования. Все ваши тексты, которые я прочел, очень хорошо и классно читаются. И возникает совершенно четкое понимание, что у вас большой сценарный, драматургический, театральный багаж, и вы знаете, как развивать действие, двигать историю.
– Ну да, я это умею. Если же говорить про склад, то не стоит запирать комнату на ключ, а ключ выбрасывать. Нет, ни в коем случае. На склад обязательно нужно заходить. Просто это надо делать не в те моменты, когда вы работаете над текстом. При этом повторюсь: сбор материала для романа необходим.
– И снова о «Чистом кайфе». Сколько прошло времени, пока вы поняли, что ваша складская комната наполнилась в достаточной степени, чтобы выходить в пустую и писать?
– Где-то семь-восемь месяцев я исследовал проблему, разговаривал с носителями хип-хоп-культуры, общался с ними плотно, съездил в тур с Васей (Баста. – Прим. ред.) в Германию. Потом я нырнул в текст, но понял, что мне не хватает другого багажа. По наркотической зависимости. И тогда я обратился к специалистам-психиатрам, к бывшим зависимым… Вернее, бывших не бывает… К ныне зависимым, которые сейчас не употребляют. Находятся в стадии неупотребления, как говорят. Они все еще наркоманы. Я общался с такими людьми. Ездил в реабилитационный центр «Пошитни». Видел там людей в стадии кумара. С ними общался. Потом поехал в Святогорский монастырь. Весь второй акт получился именно из поездки в монастырь к отцу Макарию, куда меня увез один хороший друг, тоже наркоман, зависимый человек. Получалось, что я писал текст, а потом иногда прерывался и снова занимался разработкой материала. Это было необходимо.
– Получается такая жертва… Вы жертвуете своим временем для того, чтобы создать текст. И ведь это же в каком-то смысле тоже разрушение: вы уходите из семьи, становитесь человеком, одержимым текстом. Или это не саморазрушение, а что-то еще?
– Для меня это, во-первых, было интересно. В такие моменты я открываю для себя новый мир. Я не знал мира наркоманов. Не знал мира психиатров, мира психбольниц. Не знал, как там все устроено. Я не только как писатель, но и как обыватель, просто человек открывал совершенно новое для себя пространство. Я выяснил, что в нем, оказывается, живут люди. Мы можем по-разному смотреть на проблемы наркозависимости, закрывать на это глаза и относиться с неприязнью, говоря классическую фразу «они сами в этом виноваты», но можно просто прийти и посмотреть. Там люди. Люди с нашими проблемами и страстями, но только к ним еще добавляется эта страсть, которая их пожирает.
– А можно ли «Чистый кайф» назвать романом-предостережением? Посмотрите, что будет с вами, если...
– Задачу я ставил ровно такую. Многие персонажи, с которыми я разговаривал, пока писал роман, признавались, что в 90-е подсели на наркотики, потому что это было круто. Им казалось, что они выделяются из своего сообщества. Опять же на этой шкале самооценки, собственной значимости. Им казалось, что они выше всех остальных. Они в какой-то теме, в каком-то таинственном пространстве, которое недоступно непосвященным. То есть, в принципе, это та же тема посвященности в некоторую субкультуру, если наркоманию можно так в данном случае назвать. И поэтому мне хотелось предостеречь ребят, что эти игры не просто опасные, они самоубийственные.
– А какой был фидбэк от героя, герой-то у вас имеет реальный прототип?
– Василий Михайлович (Баста. – Прим. ред.) этот текст читал. Как читали и все остальные герои, так или иначе присутствующие в тексте. В нем сложено несколько разных историй.
– И что сказали? «Трушно?» Если выражаться субкультурным языком (от англ. True – «правда»).
– Да, вполне. От этих парней я получил отзывы. Они сказали: «Андрей глубоко в теме».
– А вот, кстати, возвращаясь к вопросу ресерча, в какой момент писатель понимает, что собранного материала достаточно? Можно же бесконечно собирать.
– Я знаю людей, которые увлекаются этим крайне интересным занятием.
– Мне кажется, это такой вид прокрастинации: что бы еще пособирать, лишь бы не писать.
– Есть и такой аспект, я думаю. Но есть еще аспект чистого любопытства и перфекционизма. Желание узнать вообще все. Я знаю, как с этим бороться, потому что писал диссертацию об Оскаре Уайльде. Я был им так очарован, что год возился. Мой научный руководитель сказал просто: «Если ты дальше будешь мне приносить свои находки и свои идеи, то текста диссертации у тебя не будет». Приди, говорит, сейчас домой, положи лист бумаги и напиши: «глава первая». Я так и сделал. С тех пор я его совет помню прекрасно.
Я прекратил ресерч, когда понял, что персонажи уже задышали. Заговорили в голове. Причем какие-то важные для тебя вещи. Представьте, что вы идете по лесу и думаете о своем герое. Вы думаете, герой оказывается в довольно тяжелом положении, и вы понимаете, что плачете. Если вас это вот именно так тронуло, садитесь и пишите немедленно.
– Страх чистого листа остался?
– Его нет. Я не помню этого страха. Есть желание быстро заполнить листы.
– Но они тем не менее заполнятся все равно не быстро.
– Ну так, со скоростью две тысячи знаков в день, примерно.
– Когда вы работаете над текстом, делаете это в ежедневном режиме?
– Да, обязательно. У меня нет суббот, воскресений, нет поездок на море, нет поездок в Париж в книжные салоны, вернее, это все есть, но и в эти моменты я пишу. Пишу в самолете, в гостинице, на пляже. Должно быть 2000 знаков, и я их выдаю. Когда все закончено – пожалуйста, сиди с друзьями, пей вино, выступай на презентациях.
– Сложно к этому графику прийти? Ведь можно написать что-то, только если ты пишешь, но всегда возникает соблазн пойти пособирать информацию, пойти на книжную ярмарку...
– Вы знаете, самый сильный соблазн – это продолжить писать с того места, где ты вчера остановился.
– Хемингуэй об этом говорил.
– У меня такая же фигня. То есть у тебя есть что-то вкусненькое. Ты знаешь, что у тебя в холодильнике припрятано то, что ты любишь. И вот утром ты встаешь и идешь к этому холодильнику. Достаешь из него текст и пишешь. Выдаешь 2000 знаков и закрываешь текст. И ждешь следующего дня. Я думаю, какой кайф, что завтра я начну с этого. И вот после того, как все сделано, я иду пить вино с друзьями, плавать, загорать и так далее.
– Если уж это такой кайф, вы не хотите в такие моменты бросить друзей и побежать дописывать?
– Нет, нужно расписание. Нужна дисциплина. 2000 знаков написали, все – сегодня больше не пишем.
– А если мысль уйдет?
– Нет, она не уйдет. Рассказываю. Это, на самом деле, очень хороший вопрос. Суть в том, что если мысль ушла, значит она была не нужна. Она была слабая. Я это проверил уже давно. Если мысль мощная, правильная… Если чувства, которые вы придумали, или ситуация стоящие, вы будете помнить все это даже через месяц.
– Стивен Кинг об этом, кстати, упоминал. Он говорил: «Я никогда ничего не записываю в записные книжки, потому что нужное остается в голове». Но ведь бывает «особое писательское состояние»? Некий транс. А еще бывают моменты, когда не пишется. А вы находитесь в графике и в какой-то момент попали в это колебание маятника, когда пишется лучше, и вы это чувствуете, но не пишете, потому что у вас график. Вот здесь как выравнивать баланс? Или это уже профессионализм, когда нет этого состояния?
– Это профессионализм, но есть еще и везение, чистый luck. Везение тоже не к каждому приходит, ты должен его заслужить каким-то образом у вселенной, Господа Бога.
– Тяжелым трудом?
– Не знаю. Но хотя бы своей любовью к тому, что ты делаешь. Смотрите… В финале первого акта «Чистого кайфа» есть сцена, когда герой-наркоман заставляет ставить свою маму ему укол.
– Потому что у него ломка, и он сам не может попасть в вену…
– Да-да. И вот он не может сам попасть и заставляет мать это сделать. А она до этого не знала, что сын наркоман. Эта сцена очень трагическая. Я писал ее в Лигурии, в маленькой деревушке. Горничная выгнала меня из номера. Ей надо было срочно прибираться, и мы с моей женой Надей пошли гулять. И на улице я говорю: «Слушай, мне надо эту сцену срочно дописать, пошла тема, упускать нельзя». Мы вышли на бульвар у моря… Там старички какие-то ходят, пенсионеры. Пошел дождь. А я сижу на скамейке и говорю: «Надя, раскрывай зонт». Стариков всех смыло. Море шумит, дождь льет, я сижу, пишу, что есть сил на айпаде эту сцену. И вот как раз в данном случае весь график был нарушен. Но мне сильно повезло. Пришел такой образ, и я его записал. И сцена получилась очень сильная.
– Нейрофизиологи бы сказали, что это не везение, а следствие фоновой работы мозга, который решал, пока вы что-то еще делали, ваши задачи.
– Да, возможно. Интересно, обстоятельства очень мне мешали. Меня выгнала горничная. На улице ходили пенсионеры и горланили. Потом пошел дождь. Меня отвлекало все. Надя 40 минут держала зонт и говорила: «Рука затекла», а я просил: «Подожди, сейчас дождь кончится».
– А вот, наверное, это был тот самый чистый кайф...
– Когда сцена завершилась, я Наде передал айпад (дождь закончился, я забрал у нее зонт), она читала минут 10-15, я в это время курил, отходил, потом повернул голову и увидел, что она плачет. Это была победа. Мы сидели на мокрой лавке, она рыдала.
– В семье всегда поддерживали то, что вы делаете? Это же очень важно.
– Конечно. Мы вместе это делаем. Вместе разрабатываем материал, говорим. Всех персонажей, все ситуации я проговариваю со своей женой, прежде чем они идут в текст.
– Она муза или занимается с вами сотворчеством?
– Она в данном случае мой редактор. Прямой редактор, продюсер. Тот, который верно советует. Товарищ по письму и так далее. И зачастую – соавтор. Она часто говорит: «Слушай, а что если вот он сделает так»? Идеи бывают очень сильные. Моя девочка, она в теме.
– Кстати, к вопросу о том «а что если»? До того момента, как вы садитесь писать, есть некий план? Вы ранее мне говорили, что всегда должны знать, куда вы придете.
– Да, план есть.
– И как он выглядит примерно? Общий? Очень детальный?
– Я его не записываю. Точнее, не совсем так. У меня вся стена увешана, когда я начинаю работать, особенно над первым актом. Я делаю маленькие такие бумажечки, на них масса идей. Я их просто на булавочки – тык-тык-тык – разделяю. Это для первого акта, это для второго, это для финала. И все это висит. И в принципе я иду по намеченным рельсам. Но в процессе понимаешь, что есть лишние элементы, чего-то не хватает. И тогда я выбрасываю бумажку. Есть такие, которые не пригодились в текущем тексте, и я храню их на потом. Потому что иногда там бывают очень крутые идеи, ситуации. Прямо мороз по коже. Например: «он встанет на колени». Потом из этого целая огромная сцена рождается.
– Что для вас важнее – характер или событие?
– Характер прежде всего. Событие генерируется исходя из характера. Мы же проживаем свою жизнь исходя из того, какие мы. Наши обстоятельства мы притягиваем к себе.
– Откуда все-таки начинается характер и где то самое зерно, из которого вырастает герой, который вызовет эмпатию у читателя?
– В моем случае это всегда герой, противостоящий самому себе, соблазнам, которые идут от него самого, и обязательно он должен сам являться причиной своих проблем.
– То есть те самые скелеты в шкафу?
– Это абсолютно точно они. Герой должен быть сам виноват во всем, что с ним происходит. Должен сам разгрести эти проблемы.
–Джон Труби (автор книги «Анатомия истории». – Прим. ред.) сказал, что есть некие внешние обстоятельства, которые противостоят герою, и внутренние, созданные самим героем. Мы же именно об этом сейчас и говорим. Герой в беде и не осознает, почему так происходит.
– Совершенно верно. Деструктивность, которая происходит с героем, должна быть в нем самом, а не потому что сосед пришел и ударил его по голове бутылкой. Федор Михайлович Достоевский это все в «Преступлении и наказании» сделал наилучшим образом. Родион Романович Раскольников – идеальный персонаж, потому что он бурю разрушения несет в себе. Но потом он же ее оседлал.
– Насколько теория важна для писателя? Сейчас появилось какое-то безумное количество писательских школ. Нужна ли писателю эта теория или он должен садиться за писательский стол и просто писать и читать книги, которые его вдохновляют.
– И так и так. Во-первых, одиночество никто не отменял. У писателя свои собственные переживания. Свое неповторимое ощущение мира. Я недавно выступал в Болгарии на переводческом конгрессе в Пловдиве и сказал: «Друзья, вы поймите, проблема перевода – это же не 150 языков. Проблема перевода – это семь миллиардов языков». Ведь сколько на планете живет людей, столько разных языков, потому что у каждого человека свое восприятие. Когда вы говорите: «Я люблю тебя», вы переводите свои внутренние чувства в некий набор слов, символов, но то, что вы испытываете, ваши слова не передают. Когда мы коммуницируем, говорим о любви друг другу, о ненависти, о раздражении, мы занимаемся проблемой перевода. Я сейчас говорю об уникальности личности каждого из нас. И для писателя, и для обычного человека она крайне важна. Но для писателя в сто раз важнее, поэтому надо эту уникальность развивать.
– Тогда я не могу не задать еще один вопрос. Единственный инструмент писателя – это язык. Как обрести и найти собственный голос?
– Сначала вы должны осознать уникальное состояние своей личности, которая вам дана на шестьдесят-семьдесят лет (кому-то на тридцать, к сожалению). Вы должны это осознать, понять, ощутить. А потом после этого найти дверку из подвала. Потому что это герметичный подвал. Вы сами по себе – это герметично замкнутый подвал. Вы должны найти интерфейс. Где-то в этой пустой комнате даже не дверка есть, где-то есть клавиатура. Ее надо найти и на ней набить код выхода. Какой-то код доступа всегда есть. Вы его начинаете набивать, и вот здесь могут помочь литературные школы.
– И многие ломаются на моменте поиска.
– Где шифр забит? Да, очень многие.
– Это же самое большое писательское состояние. Это отчаяние, что ты не знаешь, как выйти из герметичной комнаты.
– Да, отчаяние. Но тут еще какая штука. Ты тыкаешься в этой комнате и – о счастье! – находишь тачпад. И выясняется, что ты, сука, не знаешь кода. Вот проблема-то, да? Истинный писатель (как Толстой, Достоевский, Чехов) рождается именно из этого состояния: он четко обустроил все у себя в комнате, потом нашел тачпад, вычислил код, набрал его и вышел из комнаты.
– Можно ли сказать, что писатель – это некий такой граф Монте-Кристо, который 25 лет долбит ложкой в стену, чтобы прокопать туннель?
– Я соглашусь. Он долбит, ложечкой процарапывает себе выход. Граф Монте-Кристо, процарапывающийся на волю, это и есть писатель.
– Итого резюмируем. Мне очень нравится формулировка: «Писатель – это тот, кто не бросил». Вы согласны?
– Неплохо. Причем не бросил все. Не бросил писать, не бросил бухать, не бросил любить.
– Где-то семь-восемь месяцев я исследовал проблему, разговаривал с носителями хип-хоп-культуры, общался с ними плотно, съездил в тур с Васей (Баста. – Прим. ред.) в Германию. Потом я нырнул в текст, но понял, что мне не хватает другого багажа. По наркотической зависимости. И тогда я обратился к специалистам-психиатрам, к бывшим зависимым… Вернее, бывших не бывает… К ныне зависимым, которые сейчас не употребляют. Находятся в стадии неупотребления, как говорят. Они все еще наркоманы. Я общался с такими людьми. Ездил в реабилитационный центр «Пошитни». Видел там людей в стадии кумара. С ними общался. Потом поехал в Святогорский монастырь. Весь второй акт получился именно из поездки в монастырь к отцу Макарию, куда меня увез один хороший друг, тоже наркоман, зависимый человек. Получалось, что я писал текст, а потом иногда прерывался и снова занимался разработкой материала. Это было необходимо.
– Получается такая жертва… Вы жертвуете своим временем для того, чтобы создать текст. И ведь это же в каком-то смысле тоже разрушение: вы уходите из семьи, становитесь человеком, одержимым текстом. Или это не саморазрушение, а что-то еще?
– Для меня это, во-первых, было интересно. В такие моменты я открываю для себя новый мир. Я не знал мира наркоманов. Не знал мира психиатров, мира психбольниц. Не знал, как там все устроено. Я не только как писатель, но и как обыватель, просто человек открывал совершенно новое для себя пространство. Я выяснил, что в нем, оказывается, живут люди. Мы можем по-разному смотреть на проблемы наркозависимости, закрывать на это глаза и относиться с неприязнью, говоря классическую фразу «они сами в этом виноваты», но можно просто прийти и посмотреть. Там люди. Люди с нашими проблемами и страстями, но только к ним еще добавляется эта страсть, которая их пожирает.
– А можно ли «Чистый кайф» назвать романом-предостережением? Посмотрите, что будет с вами, если...
– Задачу я ставил ровно такую. Многие персонажи, с которыми я разговаривал, пока писал роман, признавались, что в 90-е подсели на наркотики, потому что это было круто. Им казалось, что они выделяются из своего сообщества. Опять же на этой шкале самооценки, собственной значимости. Им казалось, что они выше всех остальных. Они в какой-то теме, в каком-то таинственном пространстве, которое недоступно непосвященным. То есть, в принципе, это та же тема посвященности в некоторую субкультуру, если наркоманию можно так в данном случае назвать. И поэтому мне хотелось предостеречь ребят, что эти игры не просто опасные, они самоубийственные.
– А какой был фидбэк от героя, герой-то у вас имеет реальный прототип?
– Василий Михайлович (Баста. – Прим. ред.) этот текст читал. Как читали и все остальные герои, так или иначе присутствующие в тексте. В нем сложено несколько разных историй.
– И что сказали? «Трушно?» Если выражаться субкультурным языком (от англ. True – «правда»).
– Да, вполне. От этих парней я получил отзывы. Они сказали: «Андрей глубоко в теме».
– А вот, кстати, возвращаясь к вопросу ресерча, в какой момент писатель понимает, что собранного материала достаточно? Можно же бесконечно собирать.
– Я знаю людей, которые увлекаются этим крайне интересным занятием.
– Мне кажется, это такой вид прокрастинации: что бы еще пособирать, лишь бы не писать.
– Есть и такой аспект, я думаю. Но есть еще аспект чистого любопытства и перфекционизма. Желание узнать вообще все. Я знаю, как с этим бороться, потому что писал диссертацию об Оскаре Уайльде. Я был им так очарован, что год возился. Мой научный руководитель сказал просто: «Если ты дальше будешь мне приносить свои находки и свои идеи, то текста диссертации у тебя не будет». Приди, говорит, сейчас домой, положи лист бумаги и напиши: «глава первая». Я так и сделал. С тех пор я его совет помню прекрасно.
Я прекратил ресерч, когда понял, что персонажи уже задышали. Заговорили в голове. Причем какие-то важные для тебя вещи. Представьте, что вы идете по лесу и думаете о своем герое. Вы думаете, герой оказывается в довольно тяжелом положении, и вы понимаете, что плачете. Если вас это вот именно так тронуло, садитесь и пишите немедленно.
– Страх чистого листа остался?
– Его нет. Я не помню этого страха. Есть желание быстро заполнить листы.
– Но они тем не менее заполнятся все равно не быстро.
– Ну так, со скоростью две тысячи знаков в день, примерно.
– Когда вы работаете над текстом, делаете это в ежедневном режиме?
– Да, обязательно. У меня нет суббот, воскресений, нет поездок на море, нет поездок в Париж в книжные салоны, вернее, это все есть, но и в эти моменты я пишу. Пишу в самолете, в гостинице, на пляже. Должно быть 2000 знаков, и я их выдаю. Когда все закончено – пожалуйста, сиди с друзьями, пей вино, выступай на презентациях.
– Сложно к этому графику прийти? Ведь можно написать что-то, только если ты пишешь, но всегда возникает соблазн пойти пособирать информацию, пойти на книжную ярмарку...
– Вы знаете, самый сильный соблазн – это продолжить писать с того места, где ты вчера остановился.
– Хемингуэй об этом говорил.
– У меня такая же фигня. То есть у тебя есть что-то вкусненькое. Ты знаешь, что у тебя в холодильнике припрятано то, что ты любишь. И вот утром ты встаешь и идешь к этому холодильнику. Достаешь из него текст и пишешь. Выдаешь 2000 знаков и закрываешь текст. И ждешь следующего дня. Я думаю, какой кайф, что завтра я начну с этого. И вот после того, как все сделано, я иду пить вино с друзьями, плавать, загорать и так далее.
– Если уж это такой кайф, вы не хотите в такие моменты бросить друзей и побежать дописывать?
– Нет, нужно расписание. Нужна дисциплина. 2000 знаков написали, все – сегодня больше не пишем.
– А если мысль уйдет?
– Нет, она не уйдет. Рассказываю. Это, на самом деле, очень хороший вопрос. Суть в том, что если мысль ушла, значит она была не нужна. Она была слабая. Я это проверил уже давно. Если мысль мощная, правильная… Если чувства, которые вы придумали, или ситуация стоящие, вы будете помнить все это даже через месяц.
– Стивен Кинг об этом, кстати, упоминал. Он говорил: «Я никогда ничего не записываю в записные книжки, потому что нужное остается в голове». Но ведь бывает «особое писательское состояние»? Некий транс. А еще бывают моменты, когда не пишется. А вы находитесь в графике и в какой-то момент попали в это колебание маятника, когда пишется лучше, и вы это чувствуете, но не пишете, потому что у вас график. Вот здесь как выравнивать баланс? Или это уже профессионализм, когда нет этого состояния?
– Это профессионализм, но есть еще и везение, чистый luck. Везение тоже не к каждому приходит, ты должен его заслужить каким-то образом у вселенной, Господа Бога.
– Тяжелым трудом?
– Не знаю. Но хотя бы своей любовью к тому, что ты делаешь. Смотрите… В финале первого акта «Чистого кайфа» есть сцена, когда герой-наркоман заставляет ставить свою маму ему укол.
– Потому что у него ломка, и он сам не может попасть в вену…
– Да-да. И вот он не может сам попасть и заставляет мать это сделать. А она до этого не знала, что сын наркоман. Эта сцена очень трагическая. Я писал ее в Лигурии, в маленькой деревушке. Горничная выгнала меня из номера. Ей надо было срочно прибираться, и мы с моей женой Надей пошли гулять. И на улице я говорю: «Слушай, мне надо эту сцену срочно дописать, пошла тема, упускать нельзя». Мы вышли на бульвар у моря… Там старички какие-то ходят, пенсионеры. Пошел дождь. А я сижу на скамейке и говорю: «Надя, раскрывай зонт». Стариков всех смыло. Море шумит, дождь льет, я сижу, пишу, что есть сил на айпаде эту сцену. И вот как раз в данном случае весь график был нарушен. Но мне сильно повезло. Пришел такой образ, и я его записал. И сцена получилась очень сильная.
– Нейрофизиологи бы сказали, что это не везение, а следствие фоновой работы мозга, который решал, пока вы что-то еще делали, ваши задачи.
– Да, возможно. Интересно, обстоятельства очень мне мешали. Меня выгнала горничная. На улице ходили пенсионеры и горланили. Потом пошел дождь. Меня отвлекало все. Надя 40 минут держала зонт и говорила: «Рука затекла», а я просил: «Подожди, сейчас дождь кончится».
– А вот, наверное, это был тот самый чистый кайф...
– Когда сцена завершилась, я Наде передал айпад (дождь закончился, я забрал у нее зонт), она читала минут 10-15, я в это время курил, отходил, потом повернул голову и увидел, что она плачет. Это была победа. Мы сидели на мокрой лавке, она рыдала.
– В семье всегда поддерживали то, что вы делаете? Это же очень важно.
– Конечно. Мы вместе это делаем. Вместе разрабатываем материал, говорим. Всех персонажей, все ситуации я проговариваю со своей женой, прежде чем они идут в текст.
– Она муза или занимается с вами сотворчеством?
– Она в данном случае мой редактор. Прямой редактор, продюсер. Тот, который верно советует. Товарищ по письму и так далее. И зачастую – соавтор. Она часто говорит: «Слушай, а что если вот он сделает так»? Идеи бывают очень сильные. Моя девочка, она в теме.
– Кстати, к вопросу о том «а что если»? До того момента, как вы садитесь писать, есть некий план? Вы ранее мне говорили, что всегда должны знать, куда вы придете.
– Да, план есть.
– И как он выглядит примерно? Общий? Очень детальный?
– Я его не записываю. Точнее, не совсем так. У меня вся стена увешана, когда я начинаю работать, особенно над первым актом. Я делаю маленькие такие бумажечки, на них масса идей. Я их просто на булавочки – тык-тык-тык – разделяю. Это для первого акта, это для второго, это для финала. И все это висит. И в принципе я иду по намеченным рельсам. Но в процессе понимаешь, что есть лишние элементы, чего-то не хватает. И тогда я выбрасываю бумажку. Есть такие, которые не пригодились в текущем тексте, и я храню их на потом. Потому что иногда там бывают очень крутые идеи, ситуации. Прямо мороз по коже. Например: «он встанет на колени». Потом из этого целая огромная сцена рождается.
– Что для вас важнее – характер или событие?
– Характер прежде всего. Событие генерируется исходя из характера. Мы же проживаем свою жизнь исходя из того, какие мы. Наши обстоятельства мы притягиваем к себе.
– Откуда все-таки начинается характер и где то самое зерно, из которого вырастает герой, который вызовет эмпатию у читателя?
– В моем случае это всегда герой, противостоящий самому себе, соблазнам, которые идут от него самого, и обязательно он должен сам являться причиной своих проблем.
– То есть те самые скелеты в шкафу?
– Это абсолютно точно они. Герой должен быть сам виноват во всем, что с ним происходит. Должен сам разгрести эти проблемы.
–Джон Труби (автор книги «Анатомия истории». – Прим. ред.) сказал, что есть некие внешние обстоятельства, которые противостоят герою, и внутренние, созданные самим героем. Мы же именно об этом сейчас и говорим. Герой в беде и не осознает, почему так происходит.
– Совершенно верно. Деструктивность, которая происходит с героем, должна быть в нем самом, а не потому что сосед пришел и ударил его по голове бутылкой. Федор Михайлович Достоевский это все в «Преступлении и наказании» сделал наилучшим образом. Родион Романович Раскольников – идеальный персонаж, потому что он бурю разрушения несет в себе. Но потом он же ее оседлал.
– Насколько теория важна для писателя? Сейчас появилось какое-то безумное количество писательских школ. Нужна ли писателю эта теория или он должен садиться за писательский стол и просто писать и читать книги, которые его вдохновляют.
– И так и так. Во-первых, одиночество никто не отменял. У писателя свои собственные переживания. Свое неповторимое ощущение мира. Я недавно выступал в Болгарии на переводческом конгрессе в Пловдиве и сказал: «Друзья, вы поймите, проблема перевода – это же не 150 языков. Проблема перевода – это семь миллиардов языков». Ведь сколько на планете живет людей, столько разных языков, потому что у каждого человека свое восприятие. Когда вы говорите: «Я люблю тебя», вы переводите свои внутренние чувства в некий набор слов, символов, но то, что вы испытываете, ваши слова не передают. Когда мы коммуницируем, говорим о любви друг другу, о ненависти, о раздражении, мы занимаемся проблемой перевода. Я сейчас говорю об уникальности личности каждого из нас. И для писателя, и для обычного человека она крайне важна. Но для писателя в сто раз важнее, поэтому надо эту уникальность развивать.
– Тогда я не могу не задать еще один вопрос. Единственный инструмент писателя – это язык. Как обрести и найти собственный голос?
– Сначала вы должны осознать уникальное состояние своей личности, которая вам дана на шестьдесят-семьдесят лет (кому-то на тридцать, к сожалению). Вы должны это осознать, понять, ощутить. А потом после этого найти дверку из подвала. Потому что это герметичный подвал. Вы сами по себе – это герметично замкнутый подвал. Вы должны найти интерфейс. Где-то в этой пустой комнате даже не дверка есть, где-то есть клавиатура. Ее надо найти и на ней набить код выхода. Какой-то код доступа всегда есть. Вы его начинаете набивать, и вот здесь могут помочь литературные школы.
– И многие ломаются на моменте поиска.
– Где шифр забит? Да, очень многие.
– Это же самое большое писательское состояние. Это отчаяние, что ты не знаешь, как выйти из герметичной комнаты.
– Да, отчаяние. Но тут еще какая штука. Ты тыкаешься в этой комнате и – о счастье! – находишь тачпад. И выясняется, что ты, сука, не знаешь кода. Вот проблема-то, да? Истинный писатель (как Толстой, Достоевский, Чехов) рождается именно из этого состояния: он четко обустроил все у себя в комнате, потом нашел тачпад, вычислил код, набрал его и вышел из комнаты.
– Можно ли сказать, что писатель – это некий такой граф Монте-Кристо, который 25 лет долбит ложкой в стену, чтобы прокопать туннель?
– Я соглашусь. Он долбит, ложечкой процарапывает себе выход. Граф Монте-Кристо, процарапывающийся на волю, это и есть писатель.
– Итого резюмируем. Мне очень нравится формулировка: «Писатель – это тот, кто не бросил». Вы согласны?
– Неплохо. Причем не бросил все. Не бросил писать, не бросил бухать, не бросил любить.
Об авторе
Андрей Геласимов. Биографическая справка
Андрей Геласимов — современный русский писатель. Автор восьми романов. Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги». В 2005 году на Парижском книжном салоне Андрей Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем. Книги включена в лонг-листы литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский букер».