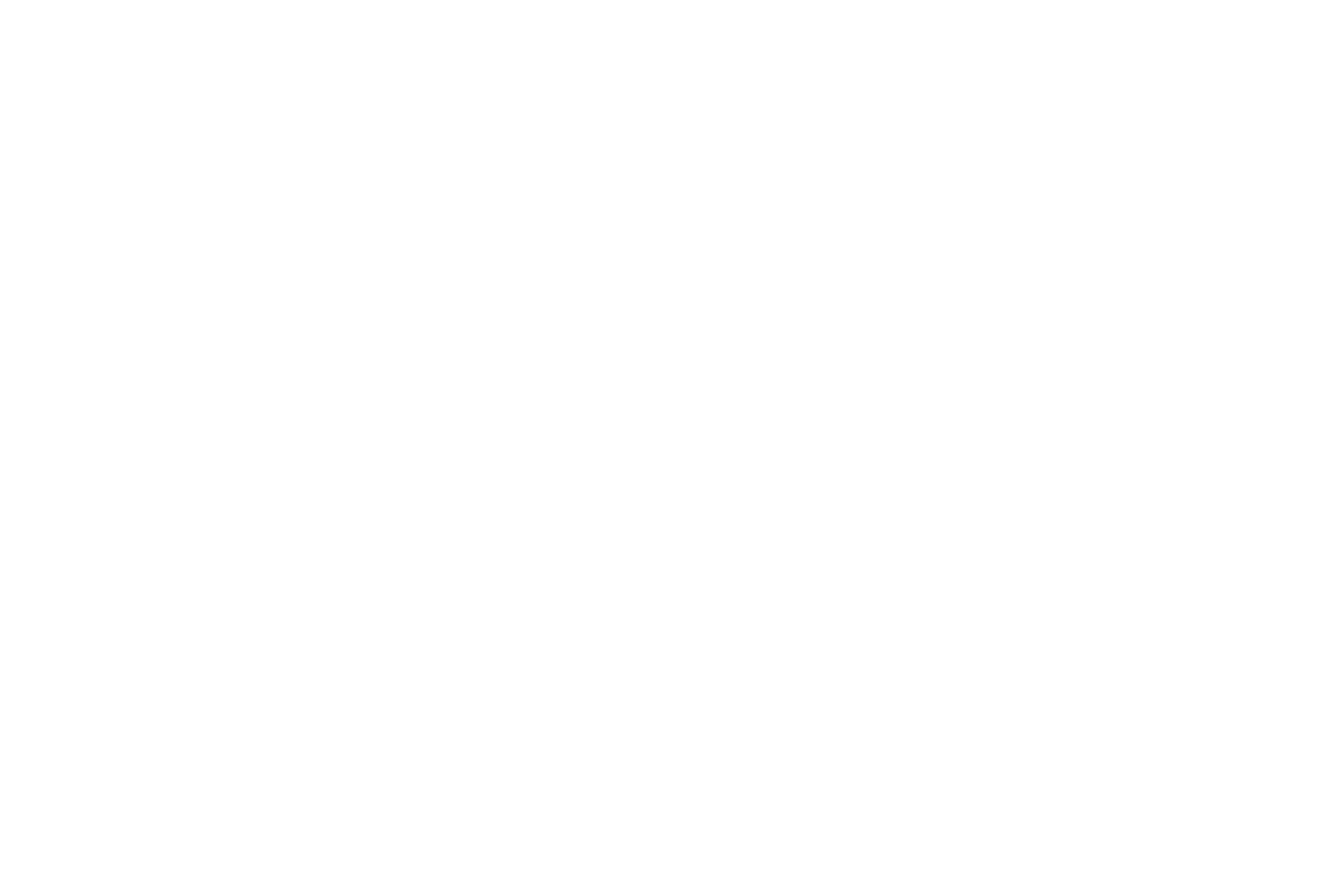
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
книжная полка
Новый роман автора бестселлера «Женщины Лазаря»
В «Редакции Елены Шубиной» выходит «Сад»— новый роман автора бестселлера «Женщины Лазаря». Публикуем фрагмент.
О чем?
Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем не жданный ребенок — девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — независимый человек. Сама принимает решения — когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире.
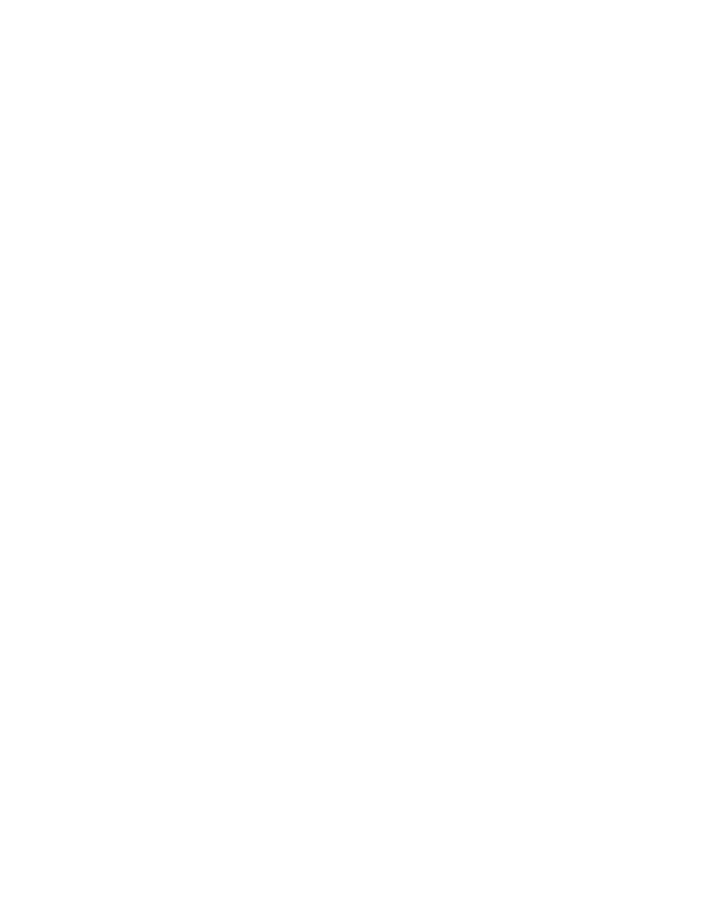
Марина Степнова. «Сад». «Редакция Елены Шубиной», 2020
Фрагмент:
Она спрыгнула с подоконника, побежала из детской — и обеими руками ударилась в неподвижную дверь.
Ее заперли. Грива ее запер. Никто никогда не запирал ее. Ни разу в жизни. И мама позволила!
Поначалу Туся не поверила — ей шел девятый год, это был возраст великой гармонии, абсолютного и счастливого доверия миру, мало того, она сама и была центр этого мира, радостного, огромного, многоцветного, словно граненое пасхальное яйцо.
Грива не мог так поступить. Она любила его больше матери, и уж точно не меньше лошадей. Грива тоже был — она сама, только большой, взрослый. Он был ее руками, если она не могла дотянуться до желаемо- го. Ее ногами, если она уставала. Грива выпутывал ее из ночного кошмара, потного, горячего, цепкого, высвобождал сперва ручки, потом ножки. Целовал горькими табачными губами в темечко и висок. На
Гривиных оранжевых йодистых пальцах она училась считать. Под его рассказы засыпала
вечером.
Грива не мог запретить ей то, что она любила больше всего, — и он об этом знал. Не мог запретить ей жить.
Это было крушение всего Тусиного мира.
Просто невозможно.
Но Мейзель был неумолим. На конюшню Тусю пускать перестали. В первый день она просто рыдала до заложенного носа, а потом закатила потрясающую истерику — продуманную, подлую, очень женскую, в трех действиях и четырех актах, с бросанием на пол и расцарапыванием лица, так что в ужас пришла не только княгиня, но и сама Туся, которая вдруг, на пике своего лживого деланного воя, сама перепугалась, что больше не сможет успокоиться никогда, и от этого принялась икать и квакать еще громче и страшнее.
Мейзель вылил ей на голову кувшин ледяной воды и долго-долго держал на коленях, трясущуюся, мокрую, судорожно ахающую на каждом вдохе. При- жимал к себе изо всех сил. Прятал под сюртук. Грел собственным теплом. А потом обработал изодранные щеки йодом, поцеловал в лоб — и наутро, услышав за завтраком матерщину, снова отменил конюшню.
Туся была в ярости.
Они воевали целую неделю — безжалостно, по- взрослому, всерьез. Туся осипла от постоянного кри- ка, в кровавых подсыхающих бороздах были теперь не только ее щеки, но и предплечья, икры, даже лоб.
Она почти не спала, ничего не ела и швырнула в гувернантку чернильным прибором, тяжелым, литым, так что по обоям расплылось жутковатое, причудливое лиловое пятно, — но ругаться не перестала.
Гувернантка, милая старая девушка, жалко и трогательно привязанная даже не к Тусе, а ко всему дому, попросила расчет и съехала незамедлительно, так что Нюточка, про которую никто и не вспомнил, осталась совсем одна — и просто сидела в детской, зажмурившись и зажав уши ладонями. Княгиня плакала у себя и нюхала соли. Танюшка шепотом советовала послать за батюшкой, чтобы отчитать бесов. Боярин, недоумевая, почему его лишили каждодневного сахара, тянул из денника шею, всхрапывал, высматривая маленькую подружку. Перебитую посуду и зеркала никто не считал. Переезд был отложен, бал по случаю новоселья застыл, недовоплощенный, будто не до конца родившийся мыльный пузырь.
Только Мейзель был невозмутим.
Она спрыгнула с подоконника, побежала из детской — и обеими руками ударилась в неподвижную дверь.
Ее заперли. Грива ее запер. Никто никогда не запирал ее. Ни разу в жизни. И мама позволила!
Поначалу Туся не поверила — ей шел девятый год, это был возраст великой гармонии, абсолютного и счастливого доверия миру, мало того, она сама и была центр этого мира, радостного, огромного, многоцветного, словно граненое пасхальное яйцо.
Грива не мог так поступить. Она любила его больше матери, и уж точно не меньше лошадей. Грива тоже был — она сама, только большой, взрослый. Он был ее руками, если она не могла дотянуться до желаемо- го. Ее ногами, если она уставала. Грива выпутывал ее из ночного кошмара, потного, горячего, цепкого, высвобождал сперва ручки, потом ножки. Целовал горькими табачными губами в темечко и висок. На
Гривиных оранжевых йодистых пальцах она училась считать. Под его рассказы засыпала
вечером.
Грива не мог запретить ей то, что она любила больше всего, — и он об этом знал. Не мог запретить ей жить.
Это было крушение всего Тусиного мира.
Просто невозможно.
Но Мейзель был неумолим. На конюшню Тусю пускать перестали. В первый день она просто рыдала до заложенного носа, а потом закатила потрясающую истерику — продуманную, подлую, очень женскую, в трех действиях и четырех актах, с бросанием на пол и расцарапыванием лица, так что в ужас пришла не только княгиня, но и сама Туся, которая вдруг, на пике своего лживого деланного воя, сама перепугалась, что больше не сможет успокоиться никогда, и от этого принялась икать и квакать еще громче и страшнее.
Мейзель вылил ей на голову кувшин ледяной воды и долго-долго держал на коленях, трясущуюся, мокрую, судорожно ахающую на каждом вдохе. При- жимал к себе изо всех сил. Прятал под сюртук. Грел собственным теплом. А потом обработал изодранные щеки йодом, поцеловал в лоб — и наутро, услышав за завтраком матерщину, снова отменил конюшню.
Туся была в ярости.
Они воевали целую неделю — безжалостно, по- взрослому, всерьез. Туся осипла от постоянного кри- ка, в кровавых подсыхающих бороздах были теперь не только ее щеки, но и предплечья, икры, даже лоб.
Она почти не спала, ничего не ела и швырнула в гувернантку чернильным прибором, тяжелым, литым, так что по обоям расплылось жутковатое, причудливое лиловое пятно, — но ругаться не перестала.
Гувернантка, милая старая девушка, жалко и трогательно привязанная даже не к Тусе, а ко всему дому, попросила расчет и съехала незамедлительно, так что Нюточка, про которую никто и не вспомнил, осталась совсем одна — и просто сидела в детской, зажмурившись и зажав уши ладонями. Княгиня плакала у себя и нюхала соли. Танюшка шепотом советовала послать за батюшкой, чтобы отчитать бесов. Боярин, недоумевая, почему его лишили каждодневного сахара, тянул из денника шею, всхрапывал, высматривая маленькую подружку. Перебитую посуду и зеркала никто не считал. Переезд был отложен, бал по случаю новоселья застыл, недовоплощенный, будто не до конца родившийся мыльный пузырь.
Только Мейзель был невозмутим.
Марина Степнова
писатель
Марина Степнова — автор громко прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга», шорт-лист премий «Русский Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер»), романов «Хирург» и «Безбожный переулок», а также сборника рассказов «Где-то под Гроссето». Ее проза переведена на двадцать три языка.
