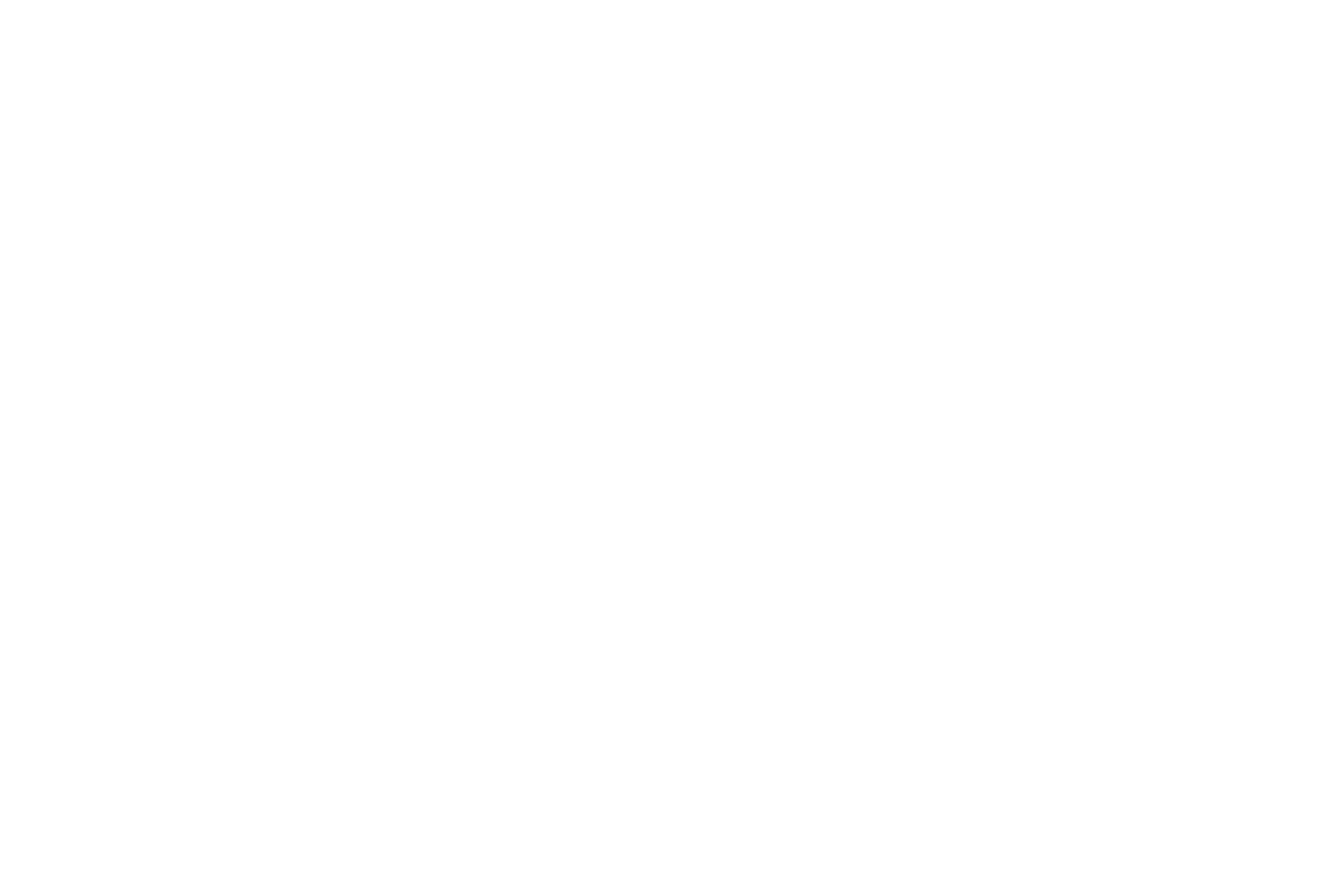
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Депрессию испытывают все писатели, кроме клинических идиотов».
Алексей Иванов — о дисциплине, технике писателя, отчаянии и подражании.
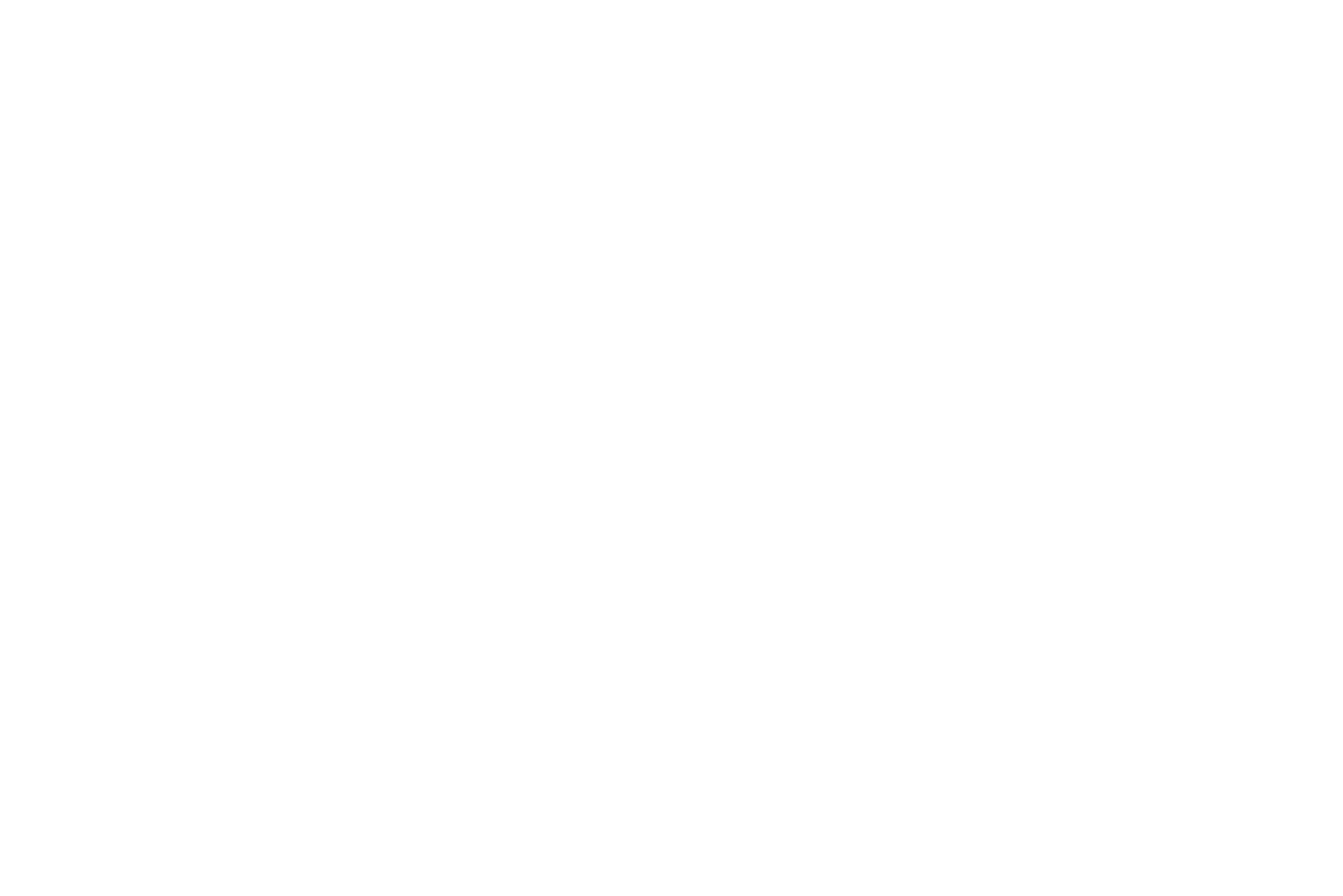
Алексей Иванов, писатель
— Как вы пишете?
Я работаю всегда, когда есть возможность. В тусовках я никогда не участвую, «общественной писательской жизнью» занимаюсь по минимуму, поэтому работаю много. К работе я подхожу конструктивно: всегда формулирую вопросы по своему произведению и придумываю ответы. Никогда не начинаю работать, не подготовившись и не зная, что делать. Пишу не по страницам, а по эпизодам; обычно один день — один эпизод. Это роднит мои произведения с кинематографом. И я всегда пользуюсь интернетом: смотрю, о чем пишу (и все, что относится «по касательной») сверяюсь, проверяю по разным источникам и темам. Кстати, по своему опыту я уверен, что знакомство со способом работы писателя ничего не дает для понимания его произведений.
— Вы все еще боитесь чистого листа? Если отмотать в точку начала работы над первой частью романа «Тобол» — вы помните свои ощущения, когда сели за компьютер, а там — пустота?
Чистого листа я не боюсь, да никогда и не боялся. На самом деле «чистого листа» не бывает. Точнее, он бывает, когда не знаешь, что писать, а я всегда знаю, потому что перед началом работы долго готовлюсь и много придумываю. Против «чистого листа» (в первый день работы и в любой другой день) есть уловочка, которую я подтибрил у Стругацких («Хромая судьба»). Цитирую: «Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня». Сочинишь такую «запальную фразу» заранее – и работа сразу пойдет. А перед романом «Тобол» я написал сценарий сериала «Тобол», так что к роману я был готов на все сто.
— 13 сентября 1929 года Хемингуэй написал своему другу Фитцджеральду письмо, в котором среди прочего были и такие строки: «Пора расцвета проходит у всех — но мы же не персики, и это не значит, что мы гнием. Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше». Став профессионалом, вы лично утратили свежесть и легкость письма? Осталось ли в вас «приятное возбуждение», когда вы садитесь за работу, или это уже расчетливое зрелое письмо — прагматизм в чистом виде? Скажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытываете, работая теперь, и какие утратили из тех, что были раньше?
Лично я человек внутри себя весьма эмоциональный, хотя внешне сдержанный. А про свою работу я предпочитаю говорить не «рассчитано» (в расчете, действительно, есть и холод, и прагматизм, которые слабо увязываются с художественным творчеством), а «технично». Я очень уважаю технику. Можно быть сколь угодно вдохновенным поэтом и написать «Мело, мело по всей земле во все пределы…» – но посмотрите, сколько техники в этой фразе. Дело ведь не только в соблюдении стихотворного размера. В этой фразе все слова разделены гласными.
Здесь прекрасная звукопись: аллитерация и ассонанс. Так и слышны порывы метельного свиста: «е-е… о-о… ф-с… с-з…». Это блистательный профессионализм. И он ничуть не мешает поэтичности и чувству. Конечно, Пастернак не придумывал сначала схему, чтобы потом вмять в нее слова; он изначально знал правила и следовал им интуитивно. Так живописец должен знать анатомию человека, чтобы написать фигуру, но ведь он не начинает писать эту фигуру, изображая сначала скелет, потом – мышцы, потом – кожу. Как ни странно, знание техники (и владение ею) не ограничивает художника, а, наоборот, дает свободу. Так что гармония не противоречит алгебре. Более того, гармония подчиняется алгебре, просто алгебра – не «дважды два четыре», а вещь очень сложная.
Однако даже в основе «золотого сечения» лежит математическая последовательность. И в литературе с техникой все обстоит так же, как в изобразительном искусстве: чем более совершенно произведение, тем сложнее оно устроено – при кажущейся внешней простоте. Так что талант и техника не противоречат друг другу и не заменяют друг друга: это два необходимых условия. На одном таланте далеко не уедешь, одна техника ничего не решит.
Технику писатель может использовать по опыту, то есть интуитивно (бывает же «врожденная грамотность», которая, по Максиму Кронгаузу, есть просто автоматизм в воспроизведении внешнего облика слова), а может и анализировать, разбирать по деталькам и изучать – это уже дело вкуса. Лично мне нравится анализировать. Но техника присутствует всегда, даже если она не осознана автором. Позволю себе цитату из собственных «Псоглавцев»: «Он ничего не продумывал. Разве мастер айкидо продумывает в бою каждое движение своего тела? Нет. Он рефлекторно действует в системе освоенной кинетики».
Теперь по поводу «свежести и легкости». Да, в значительной степени они утрачены. Но тут дело не в опыте, а в возрасте. Мне почти полтинник. Хорошая погода утром, перспектива приятной компании, романтическая дорога, чудесная книга или какая-нибудь заслуженная повесть тоже не вызывают прежнего воодушевления. Увы, увы, увы. Но я помню, как это было. Я знаю, что я чувствовал бы в этой ситуации, если бы мне было двадцать лет. Приходится довольствоваться тем, что имеешь. Это обеднение эмоций не отражается ни на способностях, ни на мастерстве. «Музыку сфер» слушают не ушами, и она звучит по-прежнему, и потому в искусстве начинаешь большее значение придавать внутренней гармонии произведения, а не внешней его аранжировке чувствами. И укрепляешь себя тем соображением, что Бетховен писал гениальные сонаты и симфонии, будучи глухим. И только очень чуткий читатель может уловить печаль. Но такие читатели не выкладывают рецензии в сеть.
И, наконец, про авторскую депрессию. Время от времени ее испытывают все писатели, кроме клинических идиотов. Надо помнить, что эти депрессии, так сказать, искушения. Выражаясь «по-стругацки», «давление гомеостатического мироздания». И депрессии надо просто отшвыривать от себя прочь, не поддаваясь им, не анализируя и не рефлексируя.
Я работаю всегда, когда есть возможность. В тусовках я никогда не участвую, «общественной писательской жизнью» занимаюсь по минимуму, поэтому работаю много. К работе я подхожу конструктивно: всегда формулирую вопросы по своему произведению и придумываю ответы. Никогда не начинаю работать, не подготовившись и не зная, что делать. Пишу не по страницам, а по эпизодам; обычно один день — один эпизод. Это роднит мои произведения с кинематографом. И я всегда пользуюсь интернетом: смотрю, о чем пишу (и все, что относится «по касательной») сверяюсь, проверяю по разным источникам и темам. Кстати, по своему опыту я уверен, что знакомство со способом работы писателя ничего не дает для понимания его произведений.
— Вы все еще боитесь чистого листа? Если отмотать в точку начала работы над первой частью романа «Тобол» — вы помните свои ощущения, когда сели за компьютер, а там — пустота?
Чистого листа я не боюсь, да никогда и не боялся. На самом деле «чистого листа» не бывает. Точнее, он бывает, когда не знаешь, что писать, а я всегда знаю, потому что перед началом работы долго готовлюсь и много придумываю. Против «чистого листа» (в первый день работы и в любой другой день) есть уловочка, которую я подтибрил у Стругацких («Хромая судьба»). Цитирую: «Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня». Сочинишь такую «запальную фразу» заранее – и работа сразу пойдет. А перед романом «Тобол» я написал сценарий сериала «Тобол», так что к роману я был готов на все сто.
— 13 сентября 1929 года Хемингуэй написал своему другу Фитцджеральду письмо, в котором среди прочего были и такие строки: «Пора расцвета проходит у всех — но мы же не персики, и это не значит, что мы гнием. Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше». Став профессионалом, вы лично утратили свежесть и легкость письма? Осталось ли в вас «приятное возбуждение», когда вы садитесь за работу, или это уже расчетливое зрелое письмо — прагматизм в чистом виде? Скажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытываете, работая теперь, и какие утратили из тех, что были раньше?
Лично я человек внутри себя весьма эмоциональный, хотя внешне сдержанный. А про свою работу я предпочитаю говорить не «рассчитано» (в расчете, действительно, есть и холод, и прагматизм, которые слабо увязываются с художественным творчеством), а «технично». Я очень уважаю технику. Можно быть сколь угодно вдохновенным поэтом и написать «Мело, мело по всей земле во все пределы…» – но посмотрите, сколько техники в этой фразе. Дело ведь не только в соблюдении стихотворного размера. В этой фразе все слова разделены гласными.
Здесь прекрасная звукопись: аллитерация и ассонанс. Так и слышны порывы метельного свиста: «е-е… о-о… ф-с… с-з…». Это блистательный профессионализм. И он ничуть не мешает поэтичности и чувству. Конечно, Пастернак не придумывал сначала схему, чтобы потом вмять в нее слова; он изначально знал правила и следовал им интуитивно. Так живописец должен знать анатомию человека, чтобы написать фигуру, но ведь он не начинает писать эту фигуру, изображая сначала скелет, потом – мышцы, потом – кожу. Как ни странно, знание техники (и владение ею) не ограничивает художника, а, наоборот, дает свободу. Так что гармония не противоречит алгебре. Более того, гармония подчиняется алгебре, просто алгебра – не «дважды два четыре», а вещь очень сложная.
Однако даже в основе «золотого сечения» лежит математическая последовательность. И в литературе с техникой все обстоит так же, как в изобразительном искусстве: чем более совершенно произведение, тем сложнее оно устроено – при кажущейся внешней простоте. Так что талант и техника не противоречат друг другу и не заменяют друг друга: это два необходимых условия. На одном таланте далеко не уедешь, одна техника ничего не решит.
Технику писатель может использовать по опыту, то есть интуитивно (бывает же «врожденная грамотность», которая, по Максиму Кронгаузу, есть просто автоматизм в воспроизведении внешнего облика слова), а может и анализировать, разбирать по деталькам и изучать – это уже дело вкуса. Лично мне нравится анализировать. Но техника присутствует всегда, даже если она не осознана автором. Позволю себе цитату из собственных «Псоглавцев»: «Он ничего не продумывал. Разве мастер айкидо продумывает в бою каждое движение своего тела? Нет. Он рефлекторно действует в системе освоенной кинетики».
Теперь по поводу «свежести и легкости». Да, в значительной степени они утрачены. Но тут дело не в опыте, а в возрасте. Мне почти полтинник. Хорошая погода утром, перспектива приятной компании, романтическая дорога, чудесная книга или какая-нибудь заслуженная повесть тоже не вызывают прежнего воодушевления. Увы, увы, увы. Но я помню, как это было. Я знаю, что я чувствовал бы в этой ситуации, если бы мне было двадцать лет. Приходится довольствоваться тем, что имеешь. Это обеднение эмоций не отражается ни на способностях, ни на мастерстве. «Музыку сфер» слушают не ушами, и она звучит по-прежнему, и потому в искусстве начинаешь большее значение придавать внутренней гармонии произведения, а не внешней его аранжировке чувствами. И укрепляешь себя тем соображением, что Бетховен писал гениальные сонаты и симфонии, будучи глухим. И только очень чуткий читатель может уловить печаль. Но такие читатели не выкладывают рецензии в сеть.
И, наконец, про авторскую депрессию. Время от времени ее испытывают все писатели, кроме клинических идиотов. Надо помнить, что эти депрессии, так сказать, искушения. Выражаясь «по-стругацки», «давление гомеостатического мироздания». И депрессии надо просто отшвыривать от себя прочь, не поддаваясь им, не анализируя и не рефлексируя.
Мне почти полтинник. Хорошая погода утром, романтическая дорога, чудесная книга не вызывают прежнего воодушевления
— А в вашем случае откуда пришла техника? Было ли что-то еще, кроме того, что писатель Андрей Рубанов называет «бетонной задницей» (сиди и пиши, опыт и техника приходят только в процессе работы) и прочитанных книг? Откуда, по вашему мнению и опыту, писатель черпает знания о технике письма? О ритмике фонетических построений, о драматургических структурах, о неповторимой мелодии и «фирменном» звучании собственных текстов?
Лично у меня не было никаких учителей или наставников. Просто я много читал — не только художественные произведения, но и работы литературоведов. Сравнивал. Анализировал. Постепенно находил собственные пути и приемы.
Могу рассказать байку о важном этапе своего формирования. Когда мне было 18-19 лет, я носил свои фантастические повести в журнал «Уральский следопыт». Редактором отдела фантастики тогда был Виталий Иванович Бугров — главный в СССР специалист по фантастике. Разных рукописей у него лежали целые горы. Поэтому он просто не читал того, что я ему давал. А я ждал, волновался, думал над своими повестями, перечитывал их бесконечно, взвешивал свои художественные решения. Я тогда учился в университете и для себя разбирал свои труды прямо по университетским разделам литературоведения и языкознания: драматургия, лексика, фонетика, образная система и так далее. Когда сомнения в достоинствах той или иной повести заедали меня окончательно, я приходил и забирал ее у Бугрова. Так я и учился на самом себе. Из всех повестей, которые я приносил, я не забрал только две. И обе они были опубликованы в «Следопыте».
— Главный авторский принцип Эрнеста Хемингуэя — писать о том, что хорошо знаешь. В интервью TheParisReview, опубликованном в 1958 году, приведена хорошая цитата, которая звучит примерно так: «Знания — вот что формирует подводную часть айсберга. Писатель, при условии, что он хорош, не занимается описанием. Писатель строит историю, черпая знания в себе и в окружающем мире. Порой речь о знаниях, которые писатель "не помнит" — семейном опыте, генетической памяти. Кто учит голубя возвращаться в голубятник?». Расскажите, пожалуйста, как процесс накопления знаний (материала) происходит у вас? Иванов-исследователь и Иванов-писатель — это разные люди? Они дружны? Или, быть может, конфликтуют, потому что Иванов-писатель подгоняет Иванова-исследователя и требует немедленно сесть за работу, но тот говорит, что время еще не пришло? Есть ли у вас какая-то система работы с материалом на подготовительном этапе?
Во времена Хемингуэя писателю, действительно, требовалось знать, о чем он пишет. В наши времена к этому требованию добавляется другое: надо, чтобы при этом предмет твоих знаний был общезначим. Например, писатель прекрасно знает свою генеалогию – но значимо ли для читателей, кем были бабушка и дедушка писателя? Или другой пример, более актуальный в эпоху, когда писатели выдают «автотексты» (описания своей повседневной жизни): писатель прекрасно знает, как он поспал, что у него было на завтрак, как он относится к своей одежде и соседям по лестничной клетке – но важно ли это для читателя? Так что к знанию предмета нужно добавлять и критическое отношение к нему.
Кстати, могу привести и другой принцип, не менее правильный, чем у Хемингуэя: писать надо о том, что ты знаешь хорошо, или чего не знает никто. Как «исследователь» (какое-то слишком выспреннее определение) я всегда в подчинении у себя как писателя. Тема для произведения появляется из общей эрудиции, интереса к миру. Лично у меня в запасе всегда есть несколько тем, в которых мне хотелось бы поработать: скажем, бронепароходы, «Мертвая дорога», звериный стиль, Радиевая экспедиция и так далее. Жанр и сюжет подбираются под тему, чтобы тема была раскрыта произведением с разных сторон. Определившись с темой, я точно формулирую для себя вопросы: что мне надо узнать? Это касается не только исторических произведений, но и современных. Например, для «Псоглавцев» я выяснял, как устроена дрезина на базе грузовика ГАЗ-51 и как работает торфяной карьер. И дальше я начинаю копать. В интернете или в спецлитературе. Пока копаю, формируется общее понимание и складываются в копилочку яркие детали. Изучение материала – даже если объем материала значительно превосходит необходимое для произведения количество – помогает построить в воображении мир, в котором ты чувствуешь себя легко и свободно, как в собственной квартире. Автор всегда должен чувствовать себя в материале свободно, иначе получится что-то инвалидное.
— Как правильно писать диалоги? Каким будет ваш совет начинающим авторам? Как вы относитесь, в частности, к наречиям в атрибуции диалогов? Он грозно сказал, он громко спросил и т.д. есть ли какие-то секреты, которыми вы можете поделиться, чтобы оживить речь героев?
По-моему, для диалогов нет никаких особенных правил. Необходимо лишь, чтобы диалоги реально «звучали вслух»; чтобы читателю было понятно, кто и как говорит; чтобы речь была яркой, а смысл — внятным. Лично я к наречиям в атрибуции отношусь положительно. Но многим другим авторам наречия, да и сама атрибуция не нравятся. Так что дело вкуса и меры.
— Насколько важна идея в романе? Когда вы пишете, вы сразу находите идею или же она приходит в процессе написания?
Для меня идея сверх-важна. Идея — это то, что я хочу сказать в романе. Пока я не решил, что хочу сказать, я не могу говорить (писать). Идея не первична, однако основополагающая. Она структурирует и сюжет, и систему образов. Писать роман, не сформулировав его идею, — все равно что шить костюм для человека по его фотографии в паспорте.
— Что вы думаете о подражании любимым авторам? Был ли в вашем творчестве (на заре, вероятно) такой этап? Чему учит подражание и учит ли чему-то вообще?
Подражание — естественный этап формирования писателя. Как, например, и написание продолжений. Но это возрастное явление — как в смысле возраста человека, так и в смысле писательской зрелости. Оно должно пройти само. Подражание заставляет внимательно разобраться в «кухне» своего кумира, освоить его приемы, следовательно, учит овладевать техникой. Но главное в писательском становлении — все же побыстрее находить себя самого.
Лично я никому не подражал. Пишу это без ложной скромности. Я читал очень много, и мне нравились очень многие авторы, но не было такого, который полностью «поработил бы» меня, потому я и не подражал: нельзя подражать сразу всем, как нельзя одновременно играть в футбол и в покер. Видимо, от жажды подражания спасает обширность компетенции, умение восхищаться разными авторами, понимание многообразия литературных стратегий. Свидетельство тому — моя собственная многожанровость.
— Вы все еще не любите рассказы? Помню, как один коллега попросил вас написать рассказ для глянцевого журнала, а вы ответили, что рассказы писать не умеете и любите все большое. Расскажите, пожалуйста, вообще о своем отношении к малым формам?
Мое отношение к рассказу не изменилось. Я — человек эпического склада мышления, а рассказ — из другого кластера, поэтому рассказ как формат мне не близок и не интересен. Однако я считаю, что рассказ — самое сложное дело в прозе, поскольку его суть отличается от сути прозы. Уловить суть рассказа очень сложно. Рассказ — не «сокращенный роман», не «маленький случай из жизни» и не развернутая метафора (иллюстрация). Он — нечто иное. Он ближе к поэзии, к музыке, к эскизу, чем к прозе с ее повестями и романами. Из настоящего рассказа невозможно сделать фильм, настоящий рассказ невозможно увеличить до повести. Возьмите, например, «Рыбку-бананку» Сэлинджера. Ее можно «перевоплотить» в рисунок, в мелодию или в стихотворение-ассоциацию, но кино не снять и в роман не раздуть: получится велосипед с паровой машиной. Я не знаю, как устроено сознание тех людей, которые могут сочинить рассказ или стихотворение, поэтому и не пишу рассказов и стихов. Я воспринимаю мир иначе, более рационалистично: сюжет, герои, язык, идея. А в рассказе важно эфемерное впечатление.
— Цейтлин в свое время писал, что творчество подлинного и значительного писателя (коим вы, несомненно, уже стали) сохраняет внутреннюю органичность: оно, подобно дереву, питается собственными корнями. Произведения, которые пишет писатель, объединены между собою глубокой внутренней связью. Байрон указывал на внутреннюю связь поэм «Лара» и «Корсар». Столь же определенно высказывался и Золя: «То, что вы называете повторениями, есть во всех моих книгах». Писателю, утверждает Цейтлин (автор книги «Путь писателя»), предстояло не «повторяться», но по-новому развивать то, что уже содержалось до того в его творчестве. Вот и Руссо писал: «Я писал о разнообразных предметах, но всегда руководился одними и теми же принципами». Чем — какой идеей, поиском ответа на какой вопрос — связаны ваши произведения, несмотря на их стилистическую и идеологическую разноплановость? Какова «управляющая идея» вашего творчества? Тот локомотив, что движет ваше творчество вперед?
— Я согласен и с Руссо, и с Золя, и с Цейтлиным. Художник в своем творчестве всегда един, хотя может работать в разных стилях и по разным темам. Рука, как говорится, узнается. Мастерство не пропить. Лично меня всегда удивляют заявления, что, якобы, «невозможно поверить, что "Географа" и "Сердце пармы" написал один и тот же человек». Профессионалы, блин, называются. Авторство определяется по характеру метафорики, по синтаксическим приемам, по способу построения образов и сюжета, по картине мира, в конце концов, а не по одной лексике. Бывает, меня спрашивают: что общего между моими героями Служкиным и Моржовым, при этом хитро так намекая, мол, Моржов – это эволюционировавший Служкин. Нет. Ничего подобного. Сходство – самое общее и поверхностное. Другое дело, что эти образы созданы по одному принципу. Я как автор всегда определяю отношение своих героев к самым важным вопросам: к женщинам, к детям, к совести, к родине, к окружающему миру. Авторские «плечики» одни и те же, а «костюмы»-персонажи – разные: разный рост, цвет, покрой и материал. Умение увидеть эти «плечики» и есть профессионализм критика или литературоведа, а наличие одних и тех же «плечиков» – имманентное свойство писателя.
Все вышесказанное касается литературной стороны творчества и личного мировоззрения, но никак не темы или идеи. Конечно, писатель может всю жизнь окучивать одну и ту же тему или идею, но мне это скучно. Например, писателей, которые все время твердят о величии (или страданиях) русской нации, называют ВПЗР – «великий писатель земли русской». А у меня, кроме земли русской, много интересов. И много идей. Когда я обдумываю будущее произведение, я выбираю ту тему и ту идею, которые на данный момент для меня наиболее актуальны, проще говоря, более всего раздражают. Я – не «национальный», а «буржуазный» писатель; своими произведениями я отвечаю на раздражители. Я не раз читал про себя, что «Иванов всегда воспевает свою любимую Пермь». Даже в «Псоглавцах», где действие происходит на Керженце (это Горьковская область) и в «Ненастье», где действие происходит в вымышленном городе где-то между Казанью, Самарой и Оренбургом. Так вот, я не люблю Пермь. Я не воспевал ее никогда. На десяток своих романов я всего дважды брал фактуру Пермского края, потому что она мне знакома, но писал в «Географе» – о «герое нашего времени», а в «Сердце пармы» – о взаимосвязи родины, судьбы и нравственности. Так что «управляющей идеи» у меня нет. Есть интерес к жизни в самых разных ее проявлениях и неприятие того, что я считаю в жизни неправильным.
Беседовал Егор Апполонов
Лично у меня не было никаких учителей или наставников. Просто я много читал — не только художественные произведения, но и работы литературоведов. Сравнивал. Анализировал. Постепенно находил собственные пути и приемы.
Могу рассказать байку о важном этапе своего формирования. Когда мне было 18-19 лет, я носил свои фантастические повести в журнал «Уральский следопыт». Редактором отдела фантастики тогда был Виталий Иванович Бугров — главный в СССР специалист по фантастике. Разных рукописей у него лежали целые горы. Поэтому он просто не читал того, что я ему давал. А я ждал, волновался, думал над своими повестями, перечитывал их бесконечно, взвешивал свои художественные решения. Я тогда учился в университете и для себя разбирал свои труды прямо по университетским разделам литературоведения и языкознания: драматургия, лексика, фонетика, образная система и так далее. Когда сомнения в достоинствах той или иной повести заедали меня окончательно, я приходил и забирал ее у Бугрова. Так я и учился на самом себе. Из всех повестей, которые я приносил, я не забрал только две. И обе они были опубликованы в «Следопыте».
— Главный авторский принцип Эрнеста Хемингуэя — писать о том, что хорошо знаешь. В интервью TheParisReview, опубликованном в 1958 году, приведена хорошая цитата, которая звучит примерно так: «Знания — вот что формирует подводную часть айсберга. Писатель, при условии, что он хорош, не занимается описанием. Писатель строит историю, черпая знания в себе и в окружающем мире. Порой речь о знаниях, которые писатель "не помнит" — семейном опыте, генетической памяти. Кто учит голубя возвращаться в голубятник?». Расскажите, пожалуйста, как процесс накопления знаний (материала) происходит у вас? Иванов-исследователь и Иванов-писатель — это разные люди? Они дружны? Или, быть может, конфликтуют, потому что Иванов-писатель подгоняет Иванова-исследователя и требует немедленно сесть за работу, но тот говорит, что время еще не пришло? Есть ли у вас какая-то система работы с материалом на подготовительном этапе?
Во времена Хемингуэя писателю, действительно, требовалось знать, о чем он пишет. В наши времена к этому требованию добавляется другое: надо, чтобы при этом предмет твоих знаний был общезначим. Например, писатель прекрасно знает свою генеалогию – но значимо ли для читателей, кем были бабушка и дедушка писателя? Или другой пример, более актуальный в эпоху, когда писатели выдают «автотексты» (описания своей повседневной жизни): писатель прекрасно знает, как он поспал, что у него было на завтрак, как он относится к своей одежде и соседям по лестничной клетке – но важно ли это для читателя? Так что к знанию предмета нужно добавлять и критическое отношение к нему.
Кстати, могу привести и другой принцип, не менее правильный, чем у Хемингуэя: писать надо о том, что ты знаешь хорошо, или чего не знает никто. Как «исследователь» (какое-то слишком выспреннее определение) я всегда в подчинении у себя как писателя. Тема для произведения появляется из общей эрудиции, интереса к миру. Лично у меня в запасе всегда есть несколько тем, в которых мне хотелось бы поработать: скажем, бронепароходы, «Мертвая дорога», звериный стиль, Радиевая экспедиция и так далее. Жанр и сюжет подбираются под тему, чтобы тема была раскрыта произведением с разных сторон. Определившись с темой, я точно формулирую для себя вопросы: что мне надо узнать? Это касается не только исторических произведений, но и современных. Например, для «Псоглавцев» я выяснял, как устроена дрезина на базе грузовика ГАЗ-51 и как работает торфяной карьер. И дальше я начинаю копать. В интернете или в спецлитературе. Пока копаю, формируется общее понимание и складываются в копилочку яркие детали. Изучение материала – даже если объем материала значительно превосходит необходимое для произведения количество – помогает построить в воображении мир, в котором ты чувствуешь себя легко и свободно, как в собственной квартире. Автор всегда должен чувствовать себя в материале свободно, иначе получится что-то инвалидное.
— Как правильно писать диалоги? Каким будет ваш совет начинающим авторам? Как вы относитесь, в частности, к наречиям в атрибуции диалогов? Он грозно сказал, он громко спросил и т.д. есть ли какие-то секреты, которыми вы можете поделиться, чтобы оживить речь героев?
По-моему, для диалогов нет никаких особенных правил. Необходимо лишь, чтобы диалоги реально «звучали вслух»; чтобы читателю было понятно, кто и как говорит; чтобы речь была яркой, а смысл — внятным. Лично я к наречиям в атрибуции отношусь положительно. Но многим другим авторам наречия, да и сама атрибуция не нравятся. Так что дело вкуса и меры.
— Насколько важна идея в романе? Когда вы пишете, вы сразу находите идею или же она приходит в процессе написания?
Для меня идея сверх-важна. Идея — это то, что я хочу сказать в романе. Пока я не решил, что хочу сказать, я не могу говорить (писать). Идея не первична, однако основополагающая. Она структурирует и сюжет, и систему образов. Писать роман, не сформулировав его идею, — все равно что шить костюм для человека по его фотографии в паспорте.
— Что вы думаете о подражании любимым авторам? Был ли в вашем творчестве (на заре, вероятно) такой этап? Чему учит подражание и учит ли чему-то вообще?
Подражание — естественный этап формирования писателя. Как, например, и написание продолжений. Но это возрастное явление — как в смысле возраста человека, так и в смысле писательской зрелости. Оно должно пройти само. Подражание заставляет внимательно разобраться в «кухне» своего кумира, освоить его приемы, следовательно, учит овладевать техникой. Но главное в писательском становлении — все же побыстрее находить себя самого.
Лично я никому не подражал. Пишу это без ложной скромности. Я читал очень много, и мне нравились очень многие авторы, но не было такого, который полностью «поработил бы» меня, потому я и не подражал: нельзя подражать сразу всем, как нельзя одновременно играть в футбол и в покер. Видимо, от жажды подражания спасает обширность компетенции, умение восхищаться разными авторами, понимание многообразия литературных стратегий. Свидетельство тому — моя собственная многожанровость.
— Вы все еще не любите рассказы? Помню, как один коллега попросил вас написать рассказ для глянцевого журнала, а вы ответили, что рассказы писать не умеете и любите все большое. Расскажите, пожалуйста, вообще о своем отношении к малым формам?
Мое отношение к рассказу не изменилось. Я — человек эпического склада мышления, а рассказ — из другого кластера, поэтому рассказ как формат мне не близок и не интересен. Однако я считаю, что рассказ — самое сложное дело в прозе, поскольку его суть отличается от сути прозы. Уловить суть рассказа очень сложно. Рассказ — не «сокращенный роман», не «маленький случай из жизни» и не развернутая метафора (иллюстрация). Он — нечто иное. Он ближе к поэзии, к музыке, к эскизу, чем к прозе с ее повестями и романами. Из настоящего рассказа невозможно сделать фильм, настоящий рассказ невозможно увеличить до повести. Возьмите, например, «Рыбку-бананку» Сэлинджера. Ее можно «перевоплотить» в рисунок, в мелодию или в стихотворение-ассоциацию, но кино не снять и в роман не раздуть: получится велосипед с паровой машиной. Я не знаю, как устроено сознание тех людей, которые могут сочинить рассказ или стихотворение, поэтому и не пишу рассказов и стихов. Я воспринимаю мир иначе, более рационалистично: сюжет, герои, язык, идея. А в рассказе важно эфемерное впечатление.
— Цейтлин в свое время писал, что творчество подлинного и значительного писателя (коим вы, несомненно, уже стали) сохраняет внутреннюю органичность: оно, подобно дереву, питается собственными корнями. Произведения, которые пишет писатель, объединены между собою глубокой внутренней связью. Байрон указывал на внутреннюю связь поэм «Лара» и «Корсар». Столь же определенно высказывался и Золя: «То, что вы называете повторениями, есть во всех моих книгах». Писателю, утверждает Цейтлин (автор книги «Путь писателя»), предстояло не «повторяться», но по-новому развивать то, что уже содержалось до того в его творчестве. Вот и Руссо писал: «Я писал о разнообразных предметах, но всегда руководился одними и теми же принципами». Чем — какой идеей, поиском ответа на какой вопрос — связаны ваши произведения, несмотря на их стилистическую и идеологическую разноплановость? Какова «управляющая идея» вашего творчества? Тот локомотив, что движет ваше творчество вперед?
— Я согласен и с Руссо, и с Золя, и с Цейтлиным. Художник в своем творчестве всегда един, хотя может работать в разных стилях и по разным темам. Рука, как говорится, узнается. Мастерство не пропить. Лично меня всегда удивляют заявления, что, якобы, «невозможно поверить, что "Географа" и "Сердце пармы" написал один и тот же человек». Профессионалы, блин, называются. Авторство определяется по характеру метафорики, по синтаксическим приемам, по способу построения образов и сюжета, по картине мира, в конце концов, а не по одной лексике. Бывает, меня спрашивают: что общего между моими героями Служкиным и Моржовым, при этом хитро так намекая, мол, Моржов – это эволюционировавший Служкин. Нет. Ничего подобного. Сходство – самое общее и поверхностное. Другое дело, что эти образы созданы по одному принципу. Я как автор всегда определяю отношение своих героев к самым важным вопросам: к женщинам, к детям, к совести, к родине, к окружающему миру. Авторские «плечики» одни и те же, а «костюмы»-персонажи – разные: разный рост, цвет, покрой и материал. Умение увидеть эти «плечики» и есть профессионализм критика или литературоведа, а наличие одних и тех же «плечиков» – имманентное свойство писателя.
Все вышесказанное касается литературной стороны творчества и личного мировоззрения, но никак не темы или идеи. Конечно, писатель может всю жизнь окучивать одну и ту же тему или идею, но мне это скучно. Например, писателей, которые все время твердят о величии (или страданиях) русской нации, называют ВПЗР – «великий писатель земли русской». А у меня, кроме земли русской, много интересов. И много идей. Когда я обдумываю будущее произведение, я выбираю ту тему и ту идею, которые на данный момент для меня наиболее актуальны, проще говоря, более всего раздражают. Я – не «национальный», а «буржуазный» писатель; своими произведениями я отвечаю на раздражители. Я не раз читал про себя, что «Иванов всегда воспевает свою любимую Пермь». Даже в «Псоглавцах», где действие происходит на Керженце (это Горьковская область) и в «Ненастье», где действие происходит в вымышленном городе где-то между Казанью, Самарой и Оренбургом. Так вот, я не люблю Пермь. Я не воспевал ее никогда. На десяток своих романов я всего дважды брал фактуру Пермского края, потому что она мне знакома, но писал в «Географе» – о «герое нашего времени», а в «Сердце пармы» – о взаимосвязи родины, судьбы и нравственности. Так что «управляющей идеи» у меня нет. Есть интерес к жизни в самых разных ее проявлениях и неприятие того, что я считаю в жизни неправильным.
Беседовал Егор Апполонов
Об авторе
Алексей Иванов. Биографическая справка
Российский писатель и сценарист. Автор 11 романов. Работает в самых разных литературных жанрах. «Корабли и Галактика» — фантастика, «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО», «Ненастье» — современная городская проза, «Золото бунта», «Сердце пармы», «Тобол», «Летоисчисление от Иоанна» — модернистские исторические романы, «Псоглавцы» и «Комьюнити» — интеллектуальные триллеры. Лауреат российских и международных премий.
