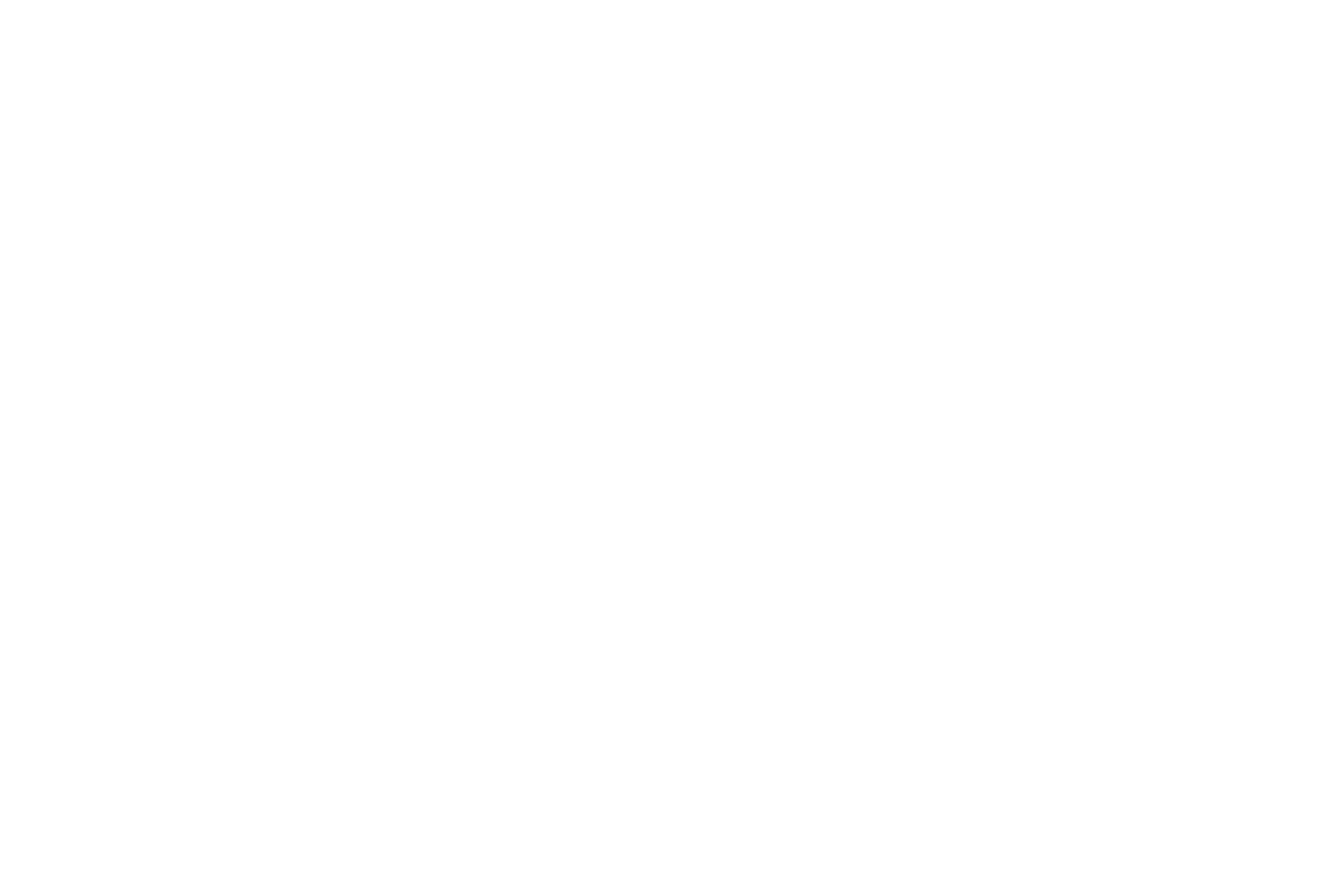
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Все писаки — и Чехов, и Смехов. Пиетет — вредное чувство»
Редакция Хемингуэй позвонит встретилась с Алекса Тарном, автором романа «Шабатон: субботний год». Мы поговорили о том, что писательство — это лес, из которого выйти уже нельзя. О том, что сам писатель — человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей. О новом романе, который вскрывает нарывы жизни и о случайности событий на пути, предательстве и любви.
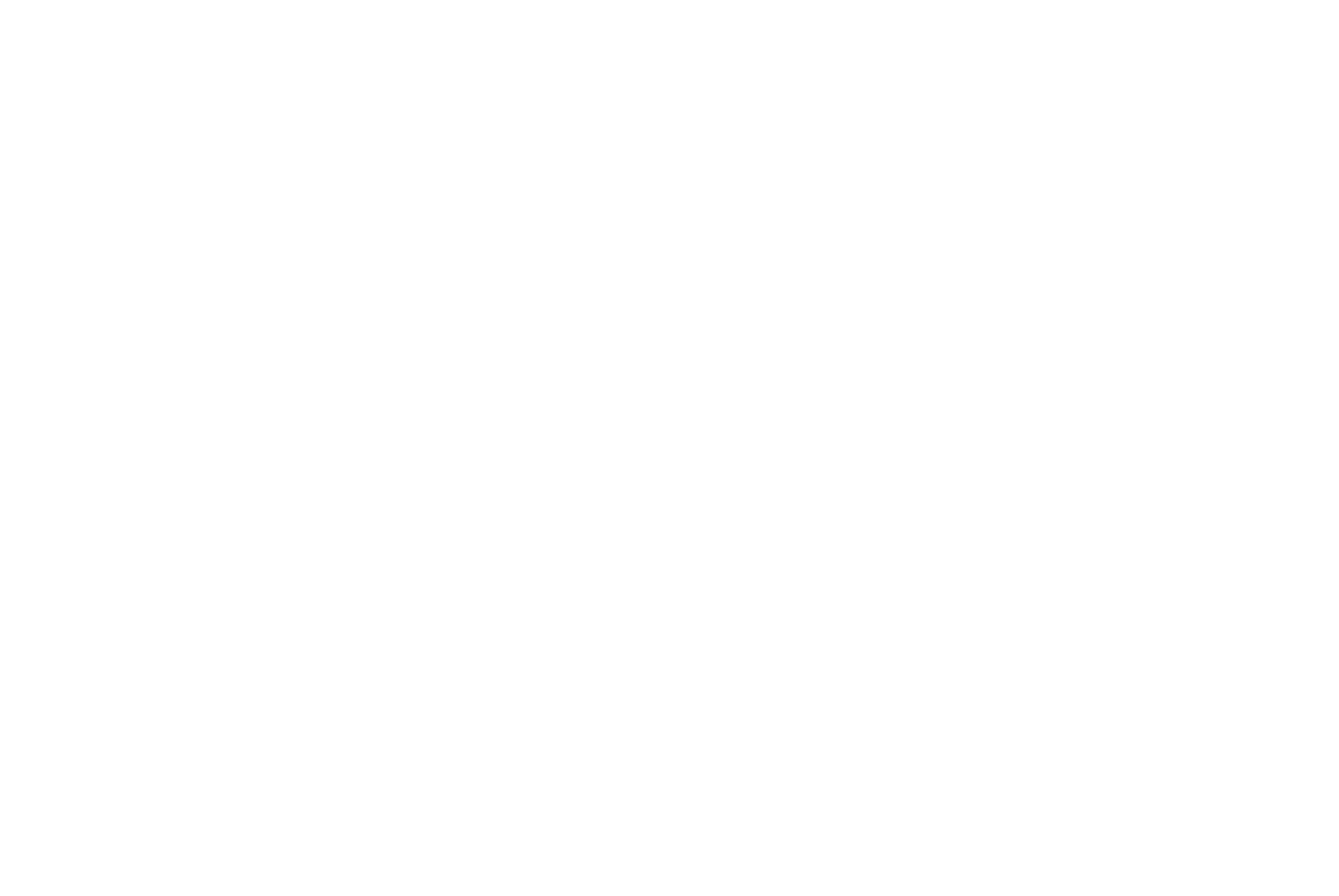
Алекс Тарн, писатель
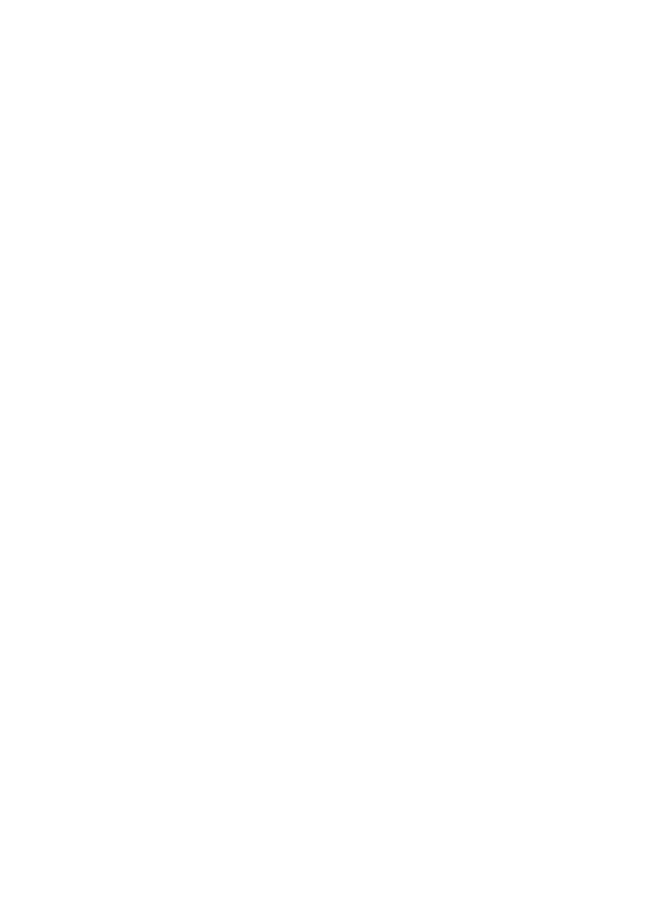
Алекс Тарн. «Шабатон», издательство «Феникс», 2022
Хочу начать нашу беседу с цитаты: «Всерьез начал заниматься литературой в 2003 году». В какой момент вы поняли, что хотите стать писателем? И считаете ли вы себя писателем?
Это вышло во многом случайно. Я занимался компьютерными сетями и не думал ни о чем другом. А где-то в начале 2000– х в Израиле начали взрываться автобусы и кафешки, и из меня поперла публицистика. Хороший знакомый работал в газете, ну и… После полудюжины статей мне пришло в голову начать детективный роман. Просто начать, а там посмотрим. Написал первую главу, прочитал и ужаснулся – что за хрень такая бульварная? Лег спать. А утром проснулся и подумал: отчего бы не написать про журналиста, который пишет на заказ бульварную хрень? Так получился роман-матрешка «Протоколы Сионских Мудрецов», номинированный затем на Букера. Та первая глава вошла в него без изменений.
Но о писательстве я тогда не думал. Полагал, что смогу по-прежнему быть IT-инженером с приличной зарплатой, а в свободное время…
Что оказалось ошибкой. Писательство – как лес. Сидишь себе на опушке с семьей и друзьями, а потом отходишь за первую линию деревьев. Опушка еще видна, так что вроде бы ничего не случилось. И ты делаешь еще шаг, и еще, и еще. А потом оборачиваешься – и бац! – нету опушки. Вокруг лес, кусты и овраги, и уже не вернуться. Вот это со мной и случилось. Служба в IT обрыдла до дикого стресса, пришлось уходить. Но называть себя писателем я стал еще позже. Не сразу привык к этой мысли.
Если вы не писатель — то кто? Как вы себя «идентифицируете»?
Сейчас уже – да, писатель. Прежде всего – прозаик, но это не все. Я еще перевожу на русский с иврита, причем, и прозу, и поэзию. Пишу публицистику. Пишу эссеистику. Пишу пьесы – какие-то даже поставлены.
«К литературе меня тянуло всегда». Это была тяга читателя или в вас всегда была эта потребность — создавать тексты, через которые вы…
Да нет такого – «тяга писателя», «тяга читателя»… Есть Слово – к нему и тяга. Читатель получает удовольствие от сюжета, персонажа, образа, фразы. Писатель получает удовольствие, изготавливая это всё. Получается, что оба балдеют от одного и того же. К тому же, чтение – интерактивный процесс. Читатель подходит к тексту со своим личным багажом ассоциаций, опыта, знаний. Его впечатление может сильно отличаться от авторского намерения. Иными словами, читатель – тоже автор.
Это вышло во многом случайно. Я занимался компьютерными сетями и не думал ни о чем другом. А где-то в начале 2000– х в Израиле начали взрываться автобусы и кафешки, и из меня поперла публицистика. Хороший знакомый работал в газете, ну и… После полудюжины статей мне пришло в голову начать детективный роман. Просто начать, а там посмотрим. Написал первую главу, прочитал и ужаснулся – что за хрень такая бульварная? Лег спать. А утром проснулся и подумал: отчего бы не написать про журналиста, который пишет на заказ бульварную хрень? Так получился роман-матрешка «Протоколы Сионских Мудрецов», номинированный затем на Букера. Та первая глава вошла в него без изменений.
Но о писательстве я тогда не думал. Полагал, что смогу по-прежнему быть IT-инженером с приличной зарплатой, а в свободное время…
Что оказалось ошибкой. Писательство – как лес. Сидишь себе на опушке с семьей и друзьями, а потом отходишь за первую линию деревьев. Опушка еще видна, так что вроде бы ничего не случилось. И ты делаешь еще шаг, и еще, и еще. А потом оборачиваешься – и бац! – нету опушки. Вокруг лес, кусты и овраги, и уже не вернуться. Вот это со мной и случилось. Служба в IT обрыдла до дикого стресса, пришлось уходить. Но называть себя писателем я стал еще позже. Не сразу привык к этой мысли.
Если вы не писатель — то кто? Как вы себя «идентифицируете»?
Сейчас уже – да, писатель. Прежде всего – прозаик, но это не все. Я еще перевожу на русский с иврита, причем, и прозу, и поэзию. Пишу публицистику. Пишу эссеистику. Пишу пьесы – какие-то даже поставлены.
«К литературе меня тянуло всегда». Это была тяга читателя или в вас всегда была эта потребность — создавать тексты, через которые вы…
Да нет такого – «тяга писателя», «тяга читателя»… Есть Слово – к нему и тяга. Читатель получает удовольствие от сюжета, персонажа, образа, фразы. Писатель получает удовольствие, изготавливая это всё. Получается, что оба балдеют от одного и того же. К тому же, чтение – интерактивный процесс. Читатель подходит к тексту со своим личным багажом ассоциаций, опыта, знаний. Его впечатление может сильно отличаться от авторского намерения. Иными словами, читатель – тоже автор.
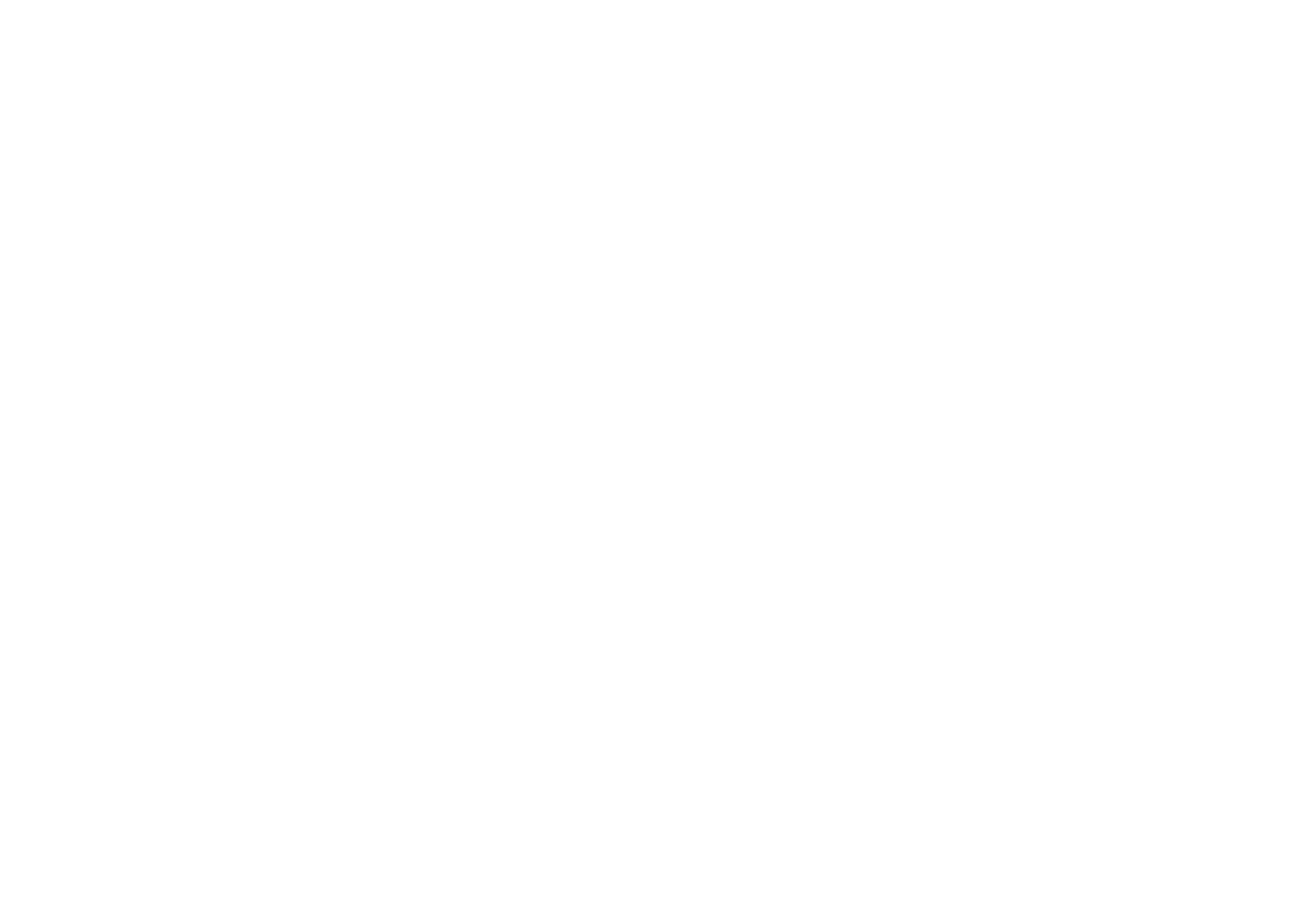
«Шабатон: субботний год». Фрагмент
На тумбочке в углу рядом со стопкой пенопластовых одноразовых стаканчиков стояли банки с молотым кофе, сахарным песком и чайными пакетиками. Единственной ложечке выделили персональный стакан – как видно, вследствие ее критической важности. Судя по запаху – вернее, его отсутствию, – кофе выдохся два-три десятилетия тому назад.
– Что ж вы банки-то не привинтили? Еще украдут… – пошутил Игаль, включая чайник. – Вам тоже налить? Сколько-сколько?
– Ложечка черного – ложечка сахара, – откликнулся хозяин кабинета, переходя на гладкий, почти без акцента, русский. – Что же вы фамилию-то не поменяли, Игорь Сергеевич?
– Фамилию? – удивленно повторил доктор Островский, оборачиваясь с драгоценной ложечкой в руке. – Да, фамилию не поменял. А надо было?
Шимон благожелательно смотрел на него поверх очков.
– Ну, если уж начали с имени… С точки зрения министерства внутренних дел, это одна операция. Типа скидки – два по цене одного.
Игаль пожал плечами.
– Видите ли, «Игорь» тут произносят неправильно, с ударением на второй слог и без мягкого знака в конце. Получается совсем другое имя – Егор. Поэтому считайте, что переименование – то или другое – мне практически навязали. С фамилией такой проблемы не было. И смысл у нее вполне еврейский, в отличие от варяжского «Игоря». Островский – выходец из Острова. Это довольно известное местечко на Волыни. Тамошняя йешива когда-то славилась на всю Польшу. Ну и еще – память о деде.
Следователь опустил взгляд к анкете и перевернул несколько листов.
– Ваш дед, Наум Григорьевич, он же Нохум Гершелевич Островский, родился 1 мая 1897 года в городе Бобруйске Минской губернии, четвертый сын меламеда Гершеля и его жены Двойры. Я правильно читаю?
– Абсолютно верно. Ваш кофе.
Вернувшись к стационарному стулу, Игаль за неимением иного варианта поставил свой стаканчик на пол.
– Судя по автобиографии, он вам особенно дорог. Это действительно так или слегка преувеличено?
– Скорее, приуменьшено, – улыбнулся доктор Островски. – Дед – самый важный человек в моей жизни. Он практически заменил мне отца.
– Ваши родители развелись?
– Они никогда не женились. Мой биологический папаша бросил мать, едва узнав о ее беременности. Я его практически не знал.
– Не знали? – Шимон снова пошуршал страницами. – Почему вы говорите о своем отце…
– …биологическом отце, – поправил Игаль. – Я уже сказал, что считаю своим реальным отцом Наума Григорьевича Островского.
– Хорошо, принимается. Почему вы говорите об этом биологическом отце в прошедшем времени? Как следует из анкеты, Сергей Сергеевич Смирнов пока еще жив.
– Видимо, да, жив. В первый и последний раз я виделся с ним восемь лет назад перед отъездом в Израиль. Он подписывал документ об отсутствии претензий.
– Гм… – хмыкнул Шимон. – Восемь лет назад… Откуда тогда известно, что он еще жив? Сейчас ему должно быть… секундочку… 68 лет. Возраст смертный, по российским понятиям.
Игаль кивнул.
– Вы правы. Но после нашего очного знакомства он повадился присылать мне поздравительные открытки на день рождения. Прислал и в этом году. Следовательно, господин Смирнов скорее жив, чем мертв.
– Ага… – Шимон многозначительно покачал головой. – То есть контакт сохраняется…
– Да нет же, – с досадой проговорил Игаль. – Повторяю: с моей стороны нет ни желания, ни контакта. Он присылает открытки, я их выбрасываю – вот и все. Это абсолютно чужой человек – как мне, так и маме, которая вообще слышать о нем не желает.
– А как они вообще познакомились – Смирнов и ваша мама Нина Наумовна? Она ведь преподавательница, так?
– Так. Мама преподавала философию в одном из московских технических вузов.
– Марксистско-ленинскую философию, – уточнил следователь. – Как это у вас называлось – истмат, диамат…
– Другой философии в СССР не было, – развел руками доктор Островски. – Бабушка работала в той же области. Семейная традиция.
– Хорошо. А Смирнов? Он тоже преподавал марксизм?
Игаль покачал головой.
– Не знаю. О биологическом отце со мной соглашалась говорить только бабушка, но она умерла в шестьдесят четвертом, когда мне едва исполнилось пять лет. Я остался с мамой и дедом, а для них Смирнов был запретной темой. Они вспоминали о нем крайне редко и лишь когда ссорились. Насколько я понял, в наш дом его привел именно дедушка. Дед тогда работал в инязе, вел семинары по итальянскому. Думаю, Смирнов прилепился к нему там, в институте.
– Прилепился? Зачем?
– Послушайте, Шимон, откуда мне знать? Я тогда еще не родился. Предполагаю, что речь идет о весьма распространенной ситуации. Любимый преподаватель, способный студент или даже аспирант… Эти отношения нередко продолжаются и за стенами аудиторий – в домашних гостиных и кабинетах. Ну а в гостиной разливает чай двадцатилетняя профессорская дочь. Дальше понятно: мама увлеклась. Она ведь деда всегда боготворила и наверняка переносила часть этого обожания на все, связанное с ним, в том числе и на его учеников. Вот вам и завязка романа. Повторяю: это только моя версия, хотя и довольно правдоподобная.
Шимон задрал очки на лоб и потер глаза обеими руками.
– Да, действительно правдоподобная, – признал он, – что свидетельствует о вашей логике и способности восстанавливать ход событий. Похвально, Игорь Сергеевич, очень похвально.
– Спасибо за комплимент, – улыбнулся Игаль. – Специалисту по сопротивлению материалов без логики не обойтись. Расчеты на прочность, знаете ли, требуют…
– А коли так, – бесцеремонно перебил его следователь, – мне трудно поверить, что вы даже не догадываетесь о роде занятий вашего отца… пардон, биологического отца. Какие-то соображения ведь должны быть?
Доктор Островски рассмеялся и погрозил собеседнику пальцем.
– Пойман, пойман молодец на цветистый леденец! Да, вы опять правы. Есть кое-какие соображения. Но учтите – исключительно в виде версий. Я уже упоминал о том, что перед отъездом приносил Смирнову документы об отсутствии претензий. Мы встретились у него в квартире. Так вот, судя по некоторым деталям, мой биологический отец отслужил в армии. Вряд ли он вышел в отставку генералом, но где-то в ранге полковника – вполне возможно.
– Почему?
– Я ж говорю – судя по мелким деталям. Старый китель на вешалке. Марка наручных, видимо, наградных часов. Форменная рубашка. Всевозможные финтифлюшки, которые обычно встречаются в сервантах и на письменных столах отставников: щиты и мечи на подставке, вымпелы, гильзы и прочая армейская бижутерия.
Шимон удовлетворенно кивнул.
– Ну вот, теперь картина более-менее ясна… – он помолчал и, вздохнув, добавил: – Но только более-менее. Неужели вы не использовали эту возможность, чтобы поговорить с папой, пусть и всего лишь биологическим? Все-таки плоть от плоти… Неужели вам не интересно, чем родной человек живет, чем дышит, есть ли у него семья, дети… Как ни крути, а речь идет о ваших кровных братьях и сестрах. Уж они-то ни в чем не виноваты, правда? Отчего бы тогда не спросить, а, Игорь Сергеевич?
– Хватит, господин Шимон! – прервал его Игаль, начиная раздражаться. – Можете мне не верить, но я не задал Смирнову ни одного вопроса. Повторяю: я не желаю иметь с ним ничего общего, за исключением самого необходимого. Именно такую необходимость – первую за тридцать лет моей жизни и, надеюсь, последнюю – представляли во время отъезда справки о претензиях. Я пришел к нему, получил подпись и ушел. Точка. Конец контактов. А его дурацкие открытки значат для меня не больше, чем рекламные флаеры, которые десятками засовываются в почтовые ящики каждую неделю. Вы наверняка тоже получаете рекламные флаеры, господин Шимон, так? Конечно, получаете. Значит ли это, что вы контактируете с продавцом собачьей еды, изготовителями кухонь или курсами художественного плетения корзин? Нет, не значит.
– Не сердитесь, Игорь Сергеевич, – мягко проговорил следователь. – Я вас прекрасно понял. Давайте оставим пока эту явно больную для вас тему…
– Да никакая она не больная! – снова перебил доктор Островски. – Мне просто больше нечего добавить, а вы клещами продолжаете вытаскивать из меня домыслы и фантазии.
– Ну уж и клещами, – усмехнулся Шимон. – Клещи, а также другие инструменты такого рода давно запрещены постановлением Верховного суда. Хотя иногда они весьма и весьма пригодились бы…
Игаль молчал, насупившись и в который уже раз жалея, что ввязался в эту авантюру. В конце концов, на Авиационном концерне свет клином не сошелся. Наверняка найдутся в Стране и другие клиенты, пусть и не такие богатые и многообещающие. Может, прямо сейчас встать и уйти, послав куда подальше этого серого очкарика – пусть бежит по известному адресу, мелко перебирая ножками в коротких штанишках… Вот только, похоже, с этого этажа просто так не уходят – всюду кодовые замки, причем не только снаружи, но и изнутри.
– Что ж вы банки-то не привинтили? Еще украдут… – пошутил Игаль, включая чайник. – Вам тоже налить? Сколько-сколько?
– Ложечка черного – ложечка сахара, – откликнулся хозяин кабинета, переходя на гладкий, почти без акцента, русский. – Что же вы фамилию-то не поменяли, Игорь Сергеевич?
– Фамилию? – удивленно повторил доктор Островский, оборачиваясь с драгоценной ложечкой в руке. – Да, фамилию не поменял. А надо было?
Шимон благожелательно смотрел на него поверх очков.
– Ну, если уж начали с имени… С точки зрения министерства внутренних дел, это одна операция. Типа скидки – два по цене одного.
Игаль пожал плечами.
– Видите ли, «Игорь» тут произносят неправильно, с ударением на второй слог и без мягкого знака в конце. Получается совсем другое имя – Егор. Поэтому считайте, что переименование – то или другое – мне практически навязали. С фамилией такой проблемы не было. И смысл у нее вполне еврейский, в отличие от варяжского «Игоря». Островский – выходец из Острова. Это довольно известное местечко на Волыни. Тамошняя йешива когда-то славилась на всю Польшу. Ну и еще – память о деде.
Следователь опустил взгляд к анкете и перевернул несколько листов.
– Ваш дед, Наум Григорьевич, он же Нохум Гершелевич Островский, родился 1 мая 1897 года в городе Бобруйске Минской губернии, четвертый сын меламеда Гершеля и его жены Двойры. Я правильно читаю?
– Абсолютно верно. Ваш кофе.
Вернувшись к стационарному стулу, Игаль за неимением иного варианта поставил свой стаканчик на пол.
– Судя по автобиографии, он вам особенно дорог. Это действительно так или слегка преувеличено?
– Скорее, приуменьшено, – улыбнулся доктор Островски. – Дед – самый важный человек в моей жизни. Он практически заменил мне отца.
– Ваши родители развелись?
– Они никогда не женились. Мой биологический папаша бросил мать, едва узнав о ее беременности. Я его практически не знал.
– Не знали? – Шимон снова пошуршал страницами. – Почему вы говорите о своем отце…
– …биологическом отце, – поправил Игаль. – Я уже сказал, что считаю своим реальным отцом Наума Григорьевича Островского.
– Хорошо, принимается. Почему вы говорите об этом биологическом отце в прошедшем времени? Как следует из анкеты, Сергей Сергеевич Смирнов пока еще жив.
– Видимо, да, жив. В первый и последний раз я виделся с ним восемь лет назад перед отъездом в Израиль. Он подписывал документ об отсутствии претензий.
– Гм… – хмыкнул Шимон. – Восемь лет назад… Откуда тогда известно, что он еще жив? Сейчас ему должно быть… секундочку… 68 лет. Возраст смертный, по российским понятиям.
Игаль кивнул.
– Вы правы. Но после нашего очного знакомства он повадился присылать мне поздравительные открытки на день рождения. Прислал и в этом году. Следовательно, господин Смирнов скорее жив, чем мертв.
– Ага… – Шимон многозначительно покачал головой. – То есть контакт сохраняется…
– Да нет же, – с досадой проговорил Игаль. – Повторяю: с моей стороны нет ни желания, ни контакта. Он присылает открытки, я их выбрасываю – вот и все. Это абсолютно чужой человек – как мне, так и маме, которая вообще слышать о нем не желает.
– А как они вообще познакомились – Смирнов и ваша мама Нина Наумовна? Она ведь преподавательница, так?
– Так. Мама преподавала философию в одном из московских технических вузов.
– Марксистско-ленинскую философию, – уточнил следователь. – Как это у вас называлось – истмат, диамат…
– Другой философии в СССР не было, – развел руками доктор Островски. – Бабушка работала в той же области. Семейная традиция.
– Хорошо. А Смирнов? Он тоже преподавал марксизм?
Игаль покачал головой.
– Не знаю. О биологическом отце со мной соглашалась говорить только бабушка, но она умерла в шестьдесят четвертом, когда мне едва исполнилось пять лет. Я остался с мамой и дедом, а для них Смирнов был запретной темой. Они вспоминали о нем крайне редко и лишь когда ссорились. Насколько я понял, в наш дом его привел именно дедушка. Дед тогда работал в инязе, вел семинары по итальянскому. Думаю, Смирнов прилепился к нему там, в институте.
– Прилепился? Зачем?
– Послушайте, Шимон, откуда мне знать? Я тогда еще не родился. Предполагаю, что речь идет о весьма распространенной ситуации. Любимый преподаватель, способный студент или даже аспирант… Эти отношения нередко продолжаются и за стенами аудиторий – в домашних гостиных и кабинетах. Ну а в гостиной разливает чай двадцатилетняя профессорская дочь. Дальше понятно: мама увлеклась. Она ведь деда всегда боготворила и наверняка переносила часть этого обожания на все, связанное с ним, в том числе и на его учеников. Вот вам и завязка романа. Повторяю: это только моя версия, хотя и довольно правдоподобная.
Шимон задрал очки на лоб и потер глаза обеими руками.
– Да, действительно правдоподобная, – признал он, – что свидетельствует о вашей логике и способности восстанавливать ход событий. Похвально, Игорь Сергеевич, очень похвально.
– Спасибо за комплимент, – улыбнулся Игаль. – Специалисту по сопротивлению материалов без логики не обойтись. Расчеты на прочность, знаете ли, требуют…
– А коли так, – бесцеремонно перебил его следователь, – мне трудно поверить, что вы даже не догадываетесь о роде занятий вашего отца… пардон, биологического отца. Какие-то соображения ведь должны быть?
Доктор Островски рассмеялся и погрозил собеседнику пальцем.
– Пойман, пойман молодец на цветистый леденец! Да, вы опять правы. Есть кое-какие соображения. Но учтите – исключительно в виде версий. Я уже упоминал о том, что перед отъездом приносил Смирнову документы об отсутствии претензий. Мы встретились у него в квартире. Так вот, судя по некоторым деталям, мой биологический отец отслужил в армии. Вряд ли он вышел в отставку генералом, но где-то в ранге полковника – вполне возможно.
– Почему?
– Я ж говорю – судя по мелким деталям. Старый китель на вешалке. Марка наручных, видимо, наградных часов. Форменная рубашка. Всевозможные финтифлюшки, которые обычно встречаются в сервантах и на письменных столах отставников: щиты и мечи на подставке, вымпелы, гильзы и прочая армейская бижутерия.
Шимон удовлетворенно кивнул.
– Ну вот, теперь картина более-менее ясна… – он помолчал и, вздохнув, добавил: – Но только более-менее. Неужели вы не использовали эту возможность, чтобы поговорить с папой, пусть и всего лишь биологическим? Все-таки плоть от плоти… Неужели вам не интересно, чем родной человек живет, чем дышит, есть ли у него семья, дети… Как ни крути, а речь идет о ваших кровных братьях и сестрах. Уж они-то ни в чем не виноваты, правда? Отчего бы тогда не спросить, а, Игорь Сергеевич?
– Хватит, господин Шимон! – прервал его Игаль, начиная раздражаться. – Можете мне не верить, но я не задал Смирнову ни одного вопроса. Повторяю: я не желаю иметь с ним ничего общего, за исключением самого необходимого. Именно такую необходимость – первую за тридцать лет моей жизни и, надеюсь, последнюю – представляли во время отъезда справки о претензиях. Я пришел к нему, получил подпись и ушел. Точка. Конец контактов. А его дурацкие открытки значат для меня не больше, чем рекламные флаеры, которые десятками засовываются в почтовые ящики каждую неделю. Вы наверняка тоже получаете рекламные флаеры, господин Шимон, так? Конечно, получаете. Значит ли это, что вы контактируете с продавцом собачьей еды, изготовителями кухонь или курсами художественного плетения корзин? Нет, не значит.
– Не сердитесь, Игорь Сергеевич, – мягко проговорил следователь. – Я вас прекрасно понял. Давайте оставим пока эту явно больную для вас тему…
– Да никакая она не больная! – снова перебил доктор Островски. – Мне просто больше нечего добавить, а вы клещами продолжаете вытаскивать из меня домыслы и фантазии.
– Ну уж и клещами, – усмехнулся Шимон. – Клещи, а также другие инструменты такого рода давно запрещены постановлением Верховного суда. Хотя иногда они весьма и весьма пригодились бы…
Игаль молчал, насупившись и в который уже раз жалея, что ввязался в эту авантюру. В конце концов, на Авиационном концерне свет клином не сошелся. Наверняка найдутся в Стране и другие клиенты, пусть и не такие богатые и многообещающие. Может, прямо сейчас встать и уйти, послав куда подальше этого серого очкарика – пусть бежит по известному адресу, мелко перебирая ножками в коротких штанишках… Вот только, похоже, с этого этажа просто так не уходят – всюду кодовые замки, причем не только снаружи, но и изнутри.
Писательство – как лес. Сидишь себе на опушке с семьей и друзьями, а потом отходишь за первую линию деревьев. Опушка еще видна, так что вроде бы ничего не случилось. И ты делаешь еще шаг, и еще, и еще. А потом оборачиваешься – и бац! – нету опушки.
И, кстати, что вы получаете через свои тексты? Или наоборот — отдаете, «производя» свои произведения?
Получаю гармонию. Писательство – это формулирование. Фраза – это формула. Чем она и выраженный в ней образ точнее, тем ближе к истине картина мира, которую ты рисуешь. И потом, слова часто тянут за собой другие слова – помимо автора. И в итоге написание текста превращается в инструмент познания. Ты сделал портрет какого-то фрагмента мира и говоришь: вот это мир, он такой. Хотя, не следует обольщаться: этот портрет – всего лишь бледная и неуклюжая копия реального многообразия. Это если очень коротко. Ну а зачем нужно познание, понятно: для гармонии с миром. Чувство гармонии с миром и есть счастье. Вот это я и «получаю через свои тексты».
Считаете ли вы, что писательство — это некий «врожденный дефект», который, как бы ты ни пытался от него отречься, рано или поздно все равно проявится?
Нет, не считаю. Я уже сказал, что начал писать случайно. Мог бы до сих пор заниматься кибербезопасностью или какой-нибудь другой аналогичной холерой.
Я не верю в сослагательные наклонения. Могли бы, но не занимаетесь. Все предопределено. Поэтому я еще раз спрошу: есть ли некая предустановка внутри писателя, которая в какой-то момент — бац — и слетает с предохранителя?
Ну, не верите – не верьте. Я не ставлю себе задачу кого-то убедить. Мне кажется нелепым убеждение, что «все предопределено». Не всё. Вот банка с теплой водой летит с крыши. Единственное предопределение тут – ее движение вниз, к земле. А вот молекулы внутри банки движутся, как известно, хаотически и абсолютно случайно. Мы с вами – молекулы в детерминированном мире. Никто не станет заниматься каждой молекулой в отдельности – забудьте эту иллюзию.
У меня довольно много иллюзий — и о литературе в том числе. Общаясь с вами — и с другими писателями — я пытаюсь найти истину. Говоря о предопределенности, я говорю о личном опыте, и об опыте тех людей, создающих художественные произведения, с которыми я общался. Вы дали мне ответ, но я возвращаюсь к сути — почему вы начали писать? И почему именно тогда, когда начали?
По-моему, я уже ответил в самом начале – ощутил необходимость сформулировать то, что я чувствую. Перевести это в слова. Сублимировать, если хотите. Но это касалось публицистики. Проза появилась совершенно случайно. Я поставил роман в Сеть и забыл о нем. Не пытался куда-то пристроить, не думал вообще продолжать что-то подобное. Там, в Сети, его и заметил редактор литературного журнала Игорь Бяльский. Его сына зовут Шломо. Героя моего романа тоже зовут Шломо Бельский. Только поэтому редактор стал читать сетевой текст абсолютно неизвестного перца. А потом удостоверился с теми, чьему вкусу доверял (Юлий Ким и Игорь Губерман), что действительно откопал невиданный самородок, и позвонил мне. Вот и всё. Так и началось.
Получаю гармонию. Писательство – это формулирование. Фраза – это формула. Чем она и выраженный в ней образ точнее, тем ближе к истине картина мира, которую ты рисуешь. И потом, слова часто тянут за собой другие слова – помимо автора. И в итоге написание текста превращается в инструмент познания. Ты сделал портрет какого-то фрагмента мира и говоришь: вот это мир, он такой. Хотя, не следует обольщаться: этот портрет – всего лишь бледная и неуклюжая копия реального многообразия. Это если очень коротко. Ну а зачем нужно познание, понятно: для гармонии с миром. Чувство гармонии с миром и есть счастье. Вот это я и «получаю через свои тексты».
Считаете ли вы, что писательство — это некий «врожденный дефект», который, как бы ты ни пытался от него отречься, рано или поздно все равно проявится?
Нет, не считаю. Я уже сказал, что начал писать случайно. Мог бы до сих пор заниматься кибербезопасностью или какой-нибудь другой аналогичной холерой.
Я не верю в сослагательные наклонения. Могли бы, но не занимаетесь. Все предопределено. Поэтому я еще раз спрошу: есть ли некая предустановка внутри писателя, которая в какой-то момент — бац — и слетает с предохранителя?
Ну, не верите – не верьте. Я не ставлю себе задачу кого-то убедить. Мне кажется нелепым убеждение, что «все предопределено». Не всё. Вот банка с теплой водой летит с крыши. Единственное предопределение тут – ее движение вниз, к земле. А вот молекулы внутри банки движутся, как известно, хаотически и абсолютно случайно. Мы с вами – молекулы в детерминированном мире. Никто не станет заниматься каждой молекулой в отдельности – забудьте эту иллюзию.
У меня довольно много иллюзий — и о литературе в том числе. Общаясь с вами — и с другими писателями — я пытаюсь найти истину. Говоря о предопределенности, я говорю о личном опыте, и об опыте тех людей, создающих художественные произведения, с которыми я общался. Вы дали мне ответ, но я возвращаюсь к сути — почему вы начали писать? И почему именно тогда, когда начали?
По-моему, я уже ответил в самом начале – ощутил необходимость сформулировать то, что я чувствую. Перевести это в слова. Сублимировать, если хотите. Но это касалось публицистики. Проза появилась совершенно случайно. Я поставил роман в Сеть и забыл о нем. Не пытался куда-то пристроить, не думал вообще продолжать что-то подобное. Там, в Сети, его и заметил редактор литературного журнала Игорь Бяльский. Его сына зовут Шломо. Героя моего романа тоже зовут Шломо Бельский. Только поэтому редактор стал читать сетевой текст абсолютно неизвестного перца. А потом удостоверился с теми, чьему вкусу доверял (Юлий Ким и Игорь Губерман), что действительно откопал невиданный самородок, и позвонил мне. Вот и всё. Так и началось.
Я уже сказал, что начал писать случайно. Мог бы до сих пор заниматься кибербезопасностью или какой-нибудь другой аналогичной холерой.
В одном из интервью вы сказали, что хотя и учились в физико-математической школе, никогда не имели склонности к математике: «Мне достаточно знать, что от ложки сахара чай становится сладким – не вникая в механику этого процесса».
Я только что говорил о формулах. Математика научила меня дисциплине формулировок, точности определений, методу, логике. Не знаю, как для других писак, но для меня важно именно это.
У некоторых других так же. Я делал интервью с Мариной Голубицкой — у нее степень по математике и она сказала примерно то же самое: математика упорядочивает тексты. И почему, кстати, вы употребили слово «писак»? Я не верю в оговорки.
Опять это «верю-не верю»… Это не оговорка. Я не полагаю себя существенной величиной. Можете заменить на «писаку» на «писателя» — для меня это одно и то же.
Применительно к самому себе или к литературе в целом? Чехов — писака или все же писатель? Давайте тогда дадим ваше определение слова «писатель»? Кто он?
Писака, писака. Все писаки — и Чехов, и Смехов. Пиетет — вредное чувство. Если кто-то вам нравится, берите от него лучшее, но ни в коем случае не водружайте на пьедестал. Юмор – лучшее лекарство от идолопоклонства. Кто такой писатель (он же писака)? Это человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей, в постижении мира посредством литературы.
Важно ли вам вникать в механику процесса написания текста или у вас есть просто потребность писать, и вы следуете за текстом, не пытаясь понять, как он рождается?
Нет, так не бывает – просто «следовать за текстом». Да, слова соединены друг с другом, и потому одно слово часто само собой тянется за другим. Но им нельзя давать волю. Наличие этой связи должно помогать, а не диктовать. «Лепесток» как правило «легкий», а «печка» – «чугунная». Эти слова тянутся друг за другом. Но эта связь уже давно набила оскомину, она банальна. С другой стороны, можно придумать образ, где чугунным будет уже лепесток – но в таком случае на авторе лежит задача доказательства реальности этой связи. В первом случае вы не открываете вообще ничего: связь ожидаема, банальна, а потому скучна, и вы теряете как собственный, так и читательский интерес. Во втором вы рискуете потерять тот же интерес из-за чересчур замысловатого, нереального образа. Истина – в балансе ожидаемого и внезапного. Задача автора – найти этот баланс.
И как его ищете лично вы?
Тут важна некоторая начитанность. Тот, кто не читал поэзии, не знает, что рифмовать «любовь-кровь» неприлично. А когда-то считалось совершенно нормальным.
В каком книжном шкафу выросли вы? Какие книги стали для вас проводниками в мир? Есть ли те, к которым вы возвращаетесь? А те, что вы возненавидели, как бы высокопарно это ни звучало?
Набоков – особенно, «Дар». Фолкнер. Воннегут. Теннеси Уильямс. Капоте. Маркес. Достоевский. Акутагава. Кобо Абэ. Генрих Белль. Ремарк. Фейхтвангер. Юрий Трифонов. Бабель. Платонов. В поэзии – Мандельштам, Пастернак, Цветаева. Обычный список тех лет, ничего особенного. Возненавидел? Нет, что вы. С чего это вдруг? Не нравится – не читай, никто ведь не заставляет.
Когда я говорю «возненавидел», я подразумеваю, что текст бьет вас по больному. Для меня таким текстом стал «Крабат и повесть ветряной мельницы» Отфрела Кройслера. Я прочел этот текст и потом плохо спал по ночам. И я был бы рад, если бы я кго не читал в тот период, когда прочел. В какой-то степени я ненавидел и «Крабата», и Кройслера. Я говорю о текстах, которые меня травмировали. Кстати, одно время я ненавидел «Дар», и Набокова тоже — потому что понимал, что никогда в жизни не смогу ничего похожего написать. Сейчас я сильно повзрослел и не хочу писать как Набоков, но я очень хорошо помню то свое 18-летнее чувство. Это была ненависть в чистом виде. Ненависть, продиктованная завистью. Видите, я с вами честен.
Ну и правильно, зачем нам лукавить? Но я зависти за собой не помню. Возможно, она и была бы, если бы я с младых ногтей ставил перед собой задачу стать писателем. Молодежь подвержена и зависти, и тщеславию, и незрелому взгляду на жизнь. Но я такой задачи не ставил. Начал писать почти в 50 лет. И, знаете, благодарен за это судьбе. Потому что горшочек рано или поздно перестает варить. И тогда 40-50-летнему писаке остается пить горькую, как это делали, увы, многие исписавшиеся таланты, начинавшие в 20.
Я только что говорил о формулах. Математика научила меня дисциплине формулировок, точности определений, методу, логике. Не знаю, как для других писак, но для меня важно именно это.
У некоторых других так же. Я делал интервью с Мариной Голубицкой — у нее степень по математике и она сказала примерно то же самое: математика упорядочивает тексты. И почему, кстати, вы употребили слово «писак»? Я не верю в оговорки.
Опять это «верю-не верю»… Это не оговорка. Я не полагаю себя существенной величиной. Можете заменить на «писаку» на «писателя» — для меня это одно и то же.
Применительно к самому себе или к литературе в целом? Чехов — писака или все же писатель? Давайте тогда дадим ваше определение слова «писатель»? Кто он?
Писака, писака. Все писаки — и Чехов, и Смехов. Пиетет — вредное чувство. Если кто-то вам нравится, берите от него лучшее, но ни в коем случае не водружайте на пьедестал. Юмор – лучшее лекарство от идолопоклонства. Кто такой писатель (он же писака)? Это человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей, в постижении мира посредством литературы.
Важно ли вам вникать в механику процесса написания текста или у вас есть просто потребность писать, и вы следуете за текстом, не пытаясь понять, как он рождается?
Нет, так не бывает – просто «следовать за текстом». Да, слова соединены друг с другом, и потому одно слово часто само собой тянется за другим. Но им нельзя давать волю. Наличие этой связи должно помогать, а не диктовать. «Лепесток» как правило «легкий», а «печка» – «чугунная». Эти слова тянутся друг за другом. Но эта связь уже давно набила оскомину, она банальна. С другой стороны, можно придумать образ, где чугунным будет уже лепесток – но в таком случае на авторе лежит задача доказательства реальности этой связи. В первом случае вы не открываете вообще ничего: связь ожидаема, банальна, а потому скучна, и вы теряете как собственный, так и читательский интерес. Во втором вы рискуете потерять тот же интерес из-за чересчур замысловатого, нереального образа. Истина – в балансе ожидаемого и внезапного. Задача автора – найти этот баланс.
И как его ищете лично вы?
Тут важна некоторая начитанность. Тот, кто не читал поэзии, не знает, что рифмовать «любовь-кровь» неприлично. А когда-то считалось совершенно нормальным.
В каком книжном шкафу выросли вы? Какие книги стали для вас проводниками в мир? Есть ли те, к которым вы возвращаетесь? А те, что вы возненавидели, как бы высокопарно это ни звучало?
Набоков – особенно, «Дар». Фолкнер. Воннегут. Теннеси Уильямс. Капоте. Маркес. Достоевский. Акутагава. Кобо Абэ. Генрих Белль. Ремарк. Фейхтвангер. Юрий Трифонов. Бабель. Платонов. В поэзии – Мандельштам, Пастернак, Цветаева. Обычный список тех лет, ничего особенного. Возненавидел? Нет, что вы. С чего это вдруг? Не нравится – не читай, никто ведь не заставляет.
Когда я говорю «возненавидел», я подразумеваю, что текст бьет вас по больному. Для меня таким текстом стал «Крабат и повесть ветряной мельницы» Отфрела Кройслера. Я прочел этот текст и потом плохо спал по ночам. И я был бы рад, если бы я кго не читал в тот период, когда прочел. В какой-то степени я ненавидел и «Крабата», и Кройслера. Я говорю о текстах, которые меня травмировали. Кстати, одно время я ненавидел «Дар», и Набокова тоже — потому что понимал, что никогда в жизни не смогу ничего похожего написать. Сейчас я сильно повзрослел и не хочу писать как Набоков, но я очень хорошо помню то свое 18-летнее чувство. Это была ненависть в чистом виде. Ненависть, продиктованная завистью. Видите, я с вами честен.
Ну и правильно, зачем нам лукавить? Но я зависти за собой не помню. Возможно, она и была бы, если бы я с младых ногтей ставил перед собой задачу стать писателем. Молодежь подвержена и зависти, и тщеславию, и незрелому взгляду на жизнь. Но я такой задачи не ставил. Начал писать почти в 50 лет. И, знаете, благодарен за это судьбе. Потому что горшочек рано или поздно перестает варить. И тогда 40-50-летнему писаке остается пить горькую, как это делали, увы, многие исписавшиеся таланты, начинавшие в 20.
Кто такой писатель (он же писака)? Это человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей, в постижении мира посредством литературы.
Как вы пишете? План или отсутствие плана? Я определил для себя два типа писателей — одни все скрупулёзно планируют и пишут только тогда, когда вся структура сюжета, конфликтов и героев проработана (яркий пример — Джозеф Хеллер и его «Уловка 22»). Второй тип писателей — эдакие серферы, которые ловят волну идеи (замысла, героя) и дальше просто следуют на гребне волны туда, куда их принесет. К какому типу себя относите вы? Или, быть может, ни к одному из этих типов?
Я не верю ни в один из этих вариантов. План есть всегда и у всех, даже если он не зафиксирован на бумаге. Есть предварительные наработки. Есть придуманные персонажи. Есть примерная последовательность сцен. Другое дело, что, обретя жизнь, персонажи начинают вести себя самостоятельно, и ты вдруг понимаешь, что кто-то из них просто не может поступить так, как ты планировал. Известны эти слова Толстого, что, дескать, Наташа Ростова взяла, да и выскочила замуж. Так оно обычно и бывает, и это нормально – не в смысле Наташ, а в смысле Толстых. Ну а кроме этого, иногда какой-нибудь второстепенный дядька завернет какую-нибудь загогулину и выскакивает аж в протагонисты. И это тоже нормально. Персонаж, не способный на самостоятельную жизнь, так и остается мертвым картонным пятном.
В этом абзаце вы так и не ответили на вопрос. Точнее не совсем ответили. Вы — кто? Как вы пишете?
По-моему, ответил. Пишу, как все – с наметками предварительного плана, который меняется и дополняется по ходу дела.
Что вы думаете о слове «вдохновение»? Оно понятно вам? Вы доверяетесь вдохновению? Профессиональный писатель (а вы считаете себя таковым), не должен (или должен?) полагаться на вдохновение, точно также как профессиональный хирург не может оперировать, если вдохновения нет. Литература не хирургия — но, с другой стороны, ей присуща одна хирургическая черта — она меняет судьбы людей.
Да чушь это, простите меня, старика. Есть чувство слова – это да. Есть чувство связи между словами, вещами и явлениями. Типа, просто смотришь перед собой и вдруг видишь чудную, сияющую, никем до тебя не обработанную связь. И испытываешь от этого восторг. Натуральный восторг первооткрывателя. Его и называют иногда «вдохновением». Это есть, да.
Чушь, что литература хирургична? Или чушь — что-то еще. А, говоря о вдохновении, я говорю о ветре, который подул в паруса, и лодка поплыла быстрее. Можно и на веслах идти. Но с ветром в парусах — это требует чуть меньше усилий.
Чушь – разговоры о «вдохновении». Есть устройство глаз, позволяющее видеть то, чего не видят другие. Это дар – такой же, как быстрые ноги или большой объем груди. Он не позволяет «идти быстрее». Он позволяет идти. Ну а насчет хирургии ничего сказать не могу. Делали мне как-то операцию, но под наркозом, проспал возможность понаблюдать за хирургом.
То есть быть писателем, значит иметь этот особый взгляд на мир?
Да. Чтобы быть хорошим писателем. Есть уйма посредственных и плохих писателей, которые вполне обходятся без открытий.
Я не верю ни в один из этих вариантов. План есть всегда и у всех, даже если он не зафиксирован на бумаге. Есть предварительные наработки. Есть придуманные персонажи. Есть примерная последовательность сцен. Другое дело, что, обретя жизнь, персонажи начинают вести себя самостоятельно, и ты вдруг понимаешь, что кто-то из них просто не может поступить так, как ты планировал. Известны эти слова Толстого, что, дескать, Наташа Ростова взяла, да и выскочила замуж. Так оно обычно и бывает, и это нормально – не в смысле Наташ, а в смысле Толстых. Ну а кроме этого, иногда какой-нибудь второстепенный дядька завернет какую-нибудь загогулину и выскакивает аж в протагонисты. И это тоже нормально. Персонаж, не способный на самостоятельную жизнь, так и остается мертвым картонным пятном.
В этом абзаце вы так и не ответили на вопрос. Точнее не совсем ответили. Вы — кто? Как вы пишете?
По-моему, ответил. Пишу, как все – с наметками предварительного плана, который меняется и дополняется по ходу дела.
Что вы думаете о слове «вдохновение»? Оно понятно вам? Вы доверяетесь вдохновению? Профессиональный писатель (а вы считаете себя таковым), не должен (или должен?) полагаться на вдохновение, точно также как профессиональный хирург не может оперировать, если вдохновения нет. Литература не хирургия — но, с другой стороны, ей присуща одна хирургическая черта — она меняет судьбы людей.
Да чушь это, простите меня, старика. Есть чувство слова – это да. Есть чувство связи между словами, вещами и явлениями. Типа, просто смотришь перед собой и вдруг видишь чудную, сияющую, никем до тебя не обработанную связь. И испытываешь от этого восторг. Натуральный восторг первооткрывателя. Его и называют иногда «вдохновением». Это есть, да.
Чушь, что литература хирургична? Или чушь — что-то еще. А, говоря о вдохновении, я говорю о ветре, который подул в паруса, и лодка поплыла быстрее. Можно и на веслах идти. Но с ветром в парусах — это требует чуть меньше усилий.
Чушь – разговоры о «вдохновении». Есть устройство глаз, позволяющее видеть то, чего не видят другие. Это дар – такой же, как быстрые ноги или большой объем груди. Он не позволяет «идти быстрее». Он позволяет идти. Ну а насчет хирургии ничего сказать не могу. Делали мне как-то операцию, но под наркозом, проспал возможность понаблюдать за хирургом.
То есть быть писателем, значит иметь этот особый взгляд на мир?
Да. Чтобы быть хорошим писателем. Есть уйма посредственных и плохих писателей, которые вполне обходятся без открытий.
Чушь – разговоры о «вдохновении». Есть устройство глаз, позволяющее видеть то, чего не видят другие. Это дар – такой же, как быстрые ноги или большой объем груди. Он не позволяет «идти быстрее». Он позволяет идти.
Меняет ли литература судьбы? Или вы не верите, что книга призвана этим заниматься? Как бы вы охарактеризовали свои тексты? Они написаны — зачем?
Видите ли, на этот счет есть разные мнения. Есть Пруст и Джойс, которые могут двадцать страниц нестись на потоке сознания, описывая сначала бисквит, а затем на бис – квиток из магазина, еще на сорок страниц. Кому-то такой тип литературы нравится, и это абсолютно легитимно. Я отношу себя к другому типу писак. Мне кажется, что в любом тексте должно быть некое сообщение, месседж. Чтобы на вопрос «О чем это?» следовал ответ ровно одним предложением. Длинным, сложноподчиненным, заковыристым, но – одним. Это сообщение и есть суть книги.
И да – литература может менять судьбы людей. Не так что до книги ты был дворником, а после книги выбился в директора, а так, что ты научился чему-то важному: общему взгляду на мир, новым связям. Лучше ощутил гармонию, о которой мы уже говорили. Я уверен, что человек обязательно должен применять хорошую книгу к себе. А иначе зачем читать? Чтобы время проводить? Но это, на минуточку, время твоей жизни – на фига же его «проводить»? Знаете, есть писатели, которые «пишут в стол». Но есть и читатели, которые «читают в стол» – без пользы, без выхода, без смысла.
Вы эгоист? Я поясню: пишущий человек, я этом глубоко убежден, пишет для себя. Какие бы слова не произносил писатель, если вы копнем очень глубоко — найдется один, зачастую очень эгоистичный мотив (деньги, признание; а может быть деньги и признание; а может быть что– то еще). Вы знаете свои личные мотивы? Или вы не согласитесь с такой формулировкой и скажете, что вы не писатель– эгоист?
Ну вообще, как говорят в соцсетях. «Деньги, признание»… Вы это серьезно?
Абсолютно серьезно. Есть и такие.
В мире есть, может, дюжина писателей, которые зарабатывают на писательстве больше, чем могли бы заработать иным, более конвенциональным путем. А уж «признание» – и вовсе фантазия. Сколько бы славы ни было, ее всегда мало. Причем, чем больше ее есть, тем меньше она ощущается. Иной раз посмотришь, какими ищущими несчастными глазами та или иная знаменитость высматривает, что о ней написали, и дурно делается. Если кто-то скажет вам, что хочет стать писателем из-за денег или славы, смело дайте ему пинка – причем, пониже спины, в то место, которым он думает. Чтобы забыл эти мысли. Я уже объяснил вам свой драйв – он никак не связан ни с деньгами, ни со славой. Гармония. Счастье. Не ради ли этого живет человек? А деньги – инструмент, не более того. И да, для душевного равновесия у тебя должны быть, в числе прочего, хорошие инструменты. Но это, безусловно, вторично. Даже самый лучший инструмент не делает человека счастливым. Счастливым его делает то, что можно построить – в том числе, при помощи этого инструмента.
Что дает этот драйв вам, если мы возьмем это определение за расшифровку эгоистичного мотива, по которому вы пишете?
Вообще-то я уже ответил: гармонию, счастье. Такой мотив достаточно эгоистичен?
Вполне. Откуда приходят идеи?
Из жизни. Из интернета, из новостей, из разговоров. Услышал что-то, увидал кого-то – и думаешь: это интересно, можно куда-нибудь вставить. Я очень редко что-то выдумываю «из головы».
Вам легко писать тексты? Большую форму? Малую форму? Это для вас — пытка или удовольствие?
Это работа, которая мне нравится. Это способ достичь гармонии, лучше осознать свое место в мировом механизме. Впрочем, это я уже говорил. А форма… да любая форма хороша. Есть у меня т.н. «большой роман», есть романы на одну журнальную книжку, есть пообъемней, есть повести, есть рассказы. Зависит от цели.
Писатель — это человек с неврозами. Или человек с некоей внутренней неудовлетворенностью. Или человек, который пытается найти ответы на важные для себя вопросы. Вы — какой писатель?
Неврозы? Почему вы так решили? Потому что Достоевский вел себя как мерзавец, Толстой брюхатил деревенских баб, а Чехов был нечистоплотен с женщинами? Ну и что? Писатели, как и любые другие люди, бывают всякими. Их отличие от остальных – вышеупомянутое чувство слова, чувство связи – не более того. Ну и техника – но технике можно научить многих, причем, кое-кто и сам учится. А все эти громкие эпитеты – гений-шмений, царь видений – это оставьте литературным критикам – они на этом диссертации делают, на жизнь зарабатывают. Как я уже говорил, писатель – это человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей, в постижении мира посредством литературы. И главный бенефициар этого процесса – он сам.
То есть у писателя есть некая миссия? Расшифровать мир? Расшифровать геном наших социальных связей? Объяснить нам, кто мы есть и как устроен этот мир?
Миссия? Ну разве что поделиться своими открытиями с теми, кто заинтересован больше узнать о мире. Писатель не пасет народы – когда он берется за такую задачу, он выглядит смешно. Солженицын был уважаем, пока делился своими открытиями – историческими, человеческими. И стал вызывать недоумение, а затем и насмешки, когда вообразил себя пророком.
Видите ли, на этот счет есть разные мнения. Есть Пруст и Джойс, которые могут двадцать страниц нестись на потоке сознания, описывая сначала бисквит, а затем на бис – квиток из магазина, еще на сорок страниц. Кому-то такой тип литературы нравится, и это абсолютно легитимно. Я отношу себя к другому типу писак. Мне кажется, что в любом тексте должно быть некое сообщение, месседж. Чтобы на вопрос «О чем это?» следовал ответ ровно одним предложением. Длинным, сложноподчиненным, заковыристым, но – одним. Это сообщение и есть суть книги.
И да – литература может менять судьбы людей. Не так что до книги ты был дворником, а после книги выбился в директора, а так, что ты научился чему-то важному: общему взгляду на мир, новым связям. Лучше ощутил гармонию, о которой мы уже говорили. Я уверен, что человек обязательно должен применять хорошую книгу к себе. А иначе зачем читать? Чтобы время проводить? Но это, на минуточку, время твоей жизни – на фига же его «проводить»? Знаете, есть писатели, которые «пишут в стол». Но есть и читатели, которые «читают в стол» – без пользы, без выхода, без смысла.
Вы эгоист? Я поясню: пишущий человек, я этом глубоко убежден, пишет для себя. Какие бы слова не произносил писатель, если вы копнем очень глубоко — найдется один, зачастую очень эгоистичный мотив (деньги, признание; а может быть деньги и признание; а может быть что– то еще). Вы знаете свои личные мотивы? Или вы не согласитесь с такой формулировкой и скажете, что вы не писатель– эгоист?
Ну вообще, как говорят в соцсетях. «Деньги, признание»… Вы это серьезно?
Абсолютно серьезно. Есть и такие.
В мире есть, может, дюжина писателей, которые зарабатывают на писательстве больше, чем могли бы заработать иным, более конвенциональным путем. А уж «признание» – и вовсе фантазия. Сколько бы славы ни было, ее всегда мало. Причем, чем больше ее есть, тем меньше она ощущается. Иной раз посмотришь, какими ищущими несчастными глазами та или иная знаменитость высматривает, что о ней написали, и дурно делается. Если кто-то скажет вам, что хочет стать писателем из-за денег или славы, смело дайте ему пинка – причем, пониже спины, в то место, которым он думает. Чтобы забыл эти мысли. Я уже объяснил вам свой драйв – он никак не связан ни с деньгами, ни со славой. Гармония. Счастье. Не ради ли этого живет человек? А деньги – инструмент, не более того. И да, для душевного равновесия у тебя должны быть, в числе прочего, хорошие инструменты. Но это, безусловно, вторично. Даже самый лучший инструмент не делает человека счастливым. Счастливым его делает то, что можно построить – в том числе, при помощи этого инструмента.
Что дает этот драйв вам, если мы возьмем это определение за расшифровку эгоистичного мотива, по которому вы пишете?
Вообще-то я уже ответил: гармонию, счастье. Такой мотив достаточно эгоистичен?
Вполне. Откуда приходят идеи?
Из жизни. Из интернета, из новостей, из разговоров. Услышал что-то, увидал кого-то – и думаешь: это интересно, можно куда-нибудь вставить. Я очень редко что-то выдумываю «из головы».
Вам легко писать тексты? Большую форму? Малую форму? Это для вас — пытка или удовольствие?
Это работа, которая мне нравится. Это способ достичь гармонии, лучше осознать свое место в мировом механизме. Впрочем, это я уже говорил. А форма… да любая форма хороша. Есть у меня т.н. «большой роман», есть романы на одну журнальную книжку, есть пообъемней, есть повести, есть рассказы. Зависит от цели.
Писатель — это человек с неврозами. Или человек с некоей внутренней неудовлетворенностью. Или человек, который пытается найти ответы на важные для себя вопросы. Вы — какой писатель?
Неврозы? Почему вы так решили? Потому что Достоевский вел себя как мерзавец, Толстой брюхатил деревенских баб, а Чехов был нечистоплотен с женщинами? Ну и что? Писатели, как и любые другие люди, бывают всякими. Их отличие от остальных – вышеупомянутое чувство слова, чувство связи – не более того. Ну и техника – но технике можно научить многих, причем, кое-кто и сам учится. А все эти громкие эпитеты – гений-шмений, царь видений – это оставьте литературным критикам – они на этом диссертации делают, на жизнь зарабатывают. Как я уже говорил, писатель – это человек, чья профессия заключается в раскрытии новых связей, в постижении мира посредством литературы. И главный бенефициар этого процесса – он сам.
То есть у писателя есть некая миссия? Расшифровать мир? Расшифровать геном наших социальных связей? Объяснить нам, кто мы есть и как устроен этот мир?
Миссия? Ну разве что поделиться своими открытиями с теми, кто заинтересован больше узнать о мире. Писатель не пасет народы – когда он берется за такую задачу, он выглядит смешно. Солженицын был уважаем, пока делился своими открытиями – историческими, человеческими. И стал вызывать недоумение, а затем и насмешки, когда вообразил себя пророком.
Писательство – это работа, которая мне нравится. Это способ достичь гармонии, лучше осознать свое место в мировом механизме.
Обратная связь важна? Вы читаете о себе в сети? Читаете ли рецензии на свои тексты? Или вы забываете о тексте, после того как он закончен, и книга вышла?
Конечно, читаю – попробуй удержись. Интересно ведь – причем вне зависимости от того, кто пишет. Интересно, как тебя прочитал умник и как прочитал глупец – и что они при этом поняли. Нельзя одного: радоваться похвалам и огорчаться ругани.
И да – я забываю о тексте, когда он закончен. Книга обычно выходит позже, и мне приходится заставлять себя читать редактуру или гранки. Неинтересно, сплошное мучение. В голове уже новый проект, а тебя тянут в старый.
Есть такая формулировка, что каждый писатель, сколько бы книг он ни написал, всегда пишут одну и ту же книгу. Вы согласны с ней? И если да, то какую книгу вы пишете?
Думаю. Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Я пишу о связях. Выявляю связи в мире, пронизанном ими вдоль и поперек. Как и любой другой писатель – с той или иной степенью успеха.
Что для вас успех?
Закончить книгу. Каждый раз, когда я переваливаю через ее экватор, я начинаю бояться не успеть. Заболеть. Лишиться зрения. Потерять разум. Помереть. И тогда все эти живые люди внутри текста, которых я обещал довести до финального причала, останутся без меня – своего единственного проводника. Это как если бы Творец исчез в разгар сотворения мира. Поэтому я всегда очень радуюсь, поставив последнюю точку. Это и есть для меня успех. А потом перехожу к новому тексту.
Этот страх не успеть — деструктивен? Или это просто часть пути?
Напротив, этот страх конструктивен. Он подгоняет к работе. Вот сейчас я отвечаю на ваши вопросы, а сам думаю: дело-то стоит…
Давайте поговорим о «Шабатоне» — как родилась идея этого текста? И о чем он, если вы готовы отвечать на такой вопрос: многие писатели, с которыми я общался, отказываются давать трактовки своим текстам, говоря, что найти смыслы в тексте — это читательская работа.
Как родилась? Тоже из новостной заметки. Кто-то поехал получать наследство от умершего родственника и вдруг обнаружил за умершим другую, параллельную жизнь. Ну а на вопрос «О чем?», отвечу, как и обещал, одним предложением. Это книга о мифах, которыми мы замещаем реальность; об удобных мифах, в которых мы живем, и о том, что происходит, когда выясняется, что за этими мифами кроется иная, зачастую крайне неприятная правда.
Книга вышла в ростовском издательстве «Феникс», которое активно развивается и радует читателей яркими и классными книгами. Как вы стали сотрудничать с этим издательством?
У меня есть замечательный литературный агент – Ольга Аминова, хозяйка и душа агентства «Флобериум». Она и связала меня с «Фениксом».
Как проходил процесс согласования текста? Расскажите о внутренней кухне работы над книгой. Вас просили что-то переписать, заменить, поправить?
Согласование… гм… А что там согласовывать? Я послушно принимаю правку опечаток и синтаксиса (то есть работу корректора). Значительно реже – поправки, относящиеся к тому или иному словоупотреблению. И совсем редко – вопросы по стилю. А уж о «переписать, заменить, поправить» и вовсе речи не идет. Тут я пас.
Вы открыты к критике? Готовы ли вы вносить правки, если редактор говорит, что это нужно сделать или вы авторитарный автор, который убежден в своем тексте и отстаивает свою позицию?
Второе. Но я бы не назвал себя «авторитарным автором». Я автор, который не готов работать с «авторитарным редактором» – так намного точнее.
Литературные агенты — друзья писателя? Многие начинающие авторы не понимают функцию литагента. Давайте поможем им разобраться в чем эта функция.
Видите ли, я живу далеко-далёко от Москвы, Питера и Ростова. Приезжаю в Россию крайне редко и не по литературным делам. Не располагаю никакими литературными знакомствами. Поэтому для меня литагент – насущная необходимость. С другой стороны, этот институт в России абсолютно неразвит, и в этом ваше кардинальное отличие от Запада, где в одном только Нью– Йорке список агентов занимает сотню страниц справочника. Значит, есть сложившаяся практика, при которой авторы сами контактируют с издательствами и редакциями – дело немыслимое в Америке или в Западной Европе. То есть вы предлагаете мне высказаться о практике, с которой я в принципе незнаком. Лично мне агент нужен – это все, что я могу сказать с полной уверенностью. Возможно, это верно и для авторов по обе стороны МКАД. Не знаю. Наверно, это очень индивидуально.
Хочу поговорить о романе «Шабатон». Ваши слова: «предопределено падение сосуда с водой». А движение молекул — хаотично. Это и есть та самая «незыблемость физических законов», о которой вы пишете в «Шабатоне?»
Одна из. Это известный пример, иллюстрирующий современную точку зрения на детерминизм мира. Она допускает наличие случайности внутри систем, которые в целом, на более общем уровне, ведут себя жестко детерминировано.
Доктор Игорь Сергеевич не признает, что тема отношений с отцом — больная тема. Есть ли в этом некая автобиографичность? Банальный вопрос, но я не могу его не задать. Вы сказали, что на идею романа натолкнула новость. Но в любом тексте всегда есть автор текста. Насколько вы близки к этому тексту или вы просто рассказали историю?
Это забавно. Вы говорите с человеком, написавшим три десятка больших текстов, десятки культурологических эссе, уйму публицистики и несколько пьес. И при этом пытаетесь выловить некую определяющую автобиографичность из одного-единственного прочитанного вами небольшого романа. Хотите поговорить об этом – нет проблем. Чтобы найти автобиографичный текст, стоит прочесть мою двухтомную сагу «Мир тесен для инопланетян» – там и в самом деле есть много автобиографичных элементов. «Шабатон» – не моя история.
Из текста мы видим, что сопромат, сложные расчеты на прогиб и т.д. — часть жизни протагониста. Все это описано довольно подробно и достоверно. Все же текст автобиографичен?
Нет. На факультете вычислительной техники, где я учился, сопромата не было вовсе.
Цитата главного героя: «Дед Наум Григорьевич — человек, которому я обязан всем. Его уход из жизни — самый тяжелый удар, который мне когда-либо приходилось перенести». Чему читатель может научиться и научится ли, читая ваш роман?
Тому, что мифы, из которых состроена наша личность далеко не всегда соответствуют действительности. Это далеко не всегда сказывается. Скажем, человек проживает в тайге. Есть действительность, которую он обязан знать в точности, иначе не выживет. Особенности округи, тропы, способы выживания и проч. Тут мифами не обойдешься. А что касается всего остального, можно, особо не вникая, принять мнение школьного учебника, телевизора, соседей, пары-тройки прочитанных случайных книжек. То есть весь огромный мир, окружающий этот участок тайги, для него – миф, нечто рассказанное, крайне поверхностное, необязательно верное. Так можно родиться, жить и умереть. Но представим, что его вынули из тайги и переселили в совершенно иное место, где нужны другие знания и другие навыки. Там он неизбежно столкнется с фактом, что мир не таков, каким его рисуют мифы.
Жизнь, как хорошо рассчитанная инженерная конструкция, которую подарил дед Наум, рушится. За героем стояла мощная сила — дед Наум? И вот лед дал трещину и сквозь щели лезут сомнения.
Да, как в примере с тайгой. Человек внезапно сталкивается с фактом, свидетельствующим о наличии иной реальности. И это выбивает его из колеи.
Отношения между отцом и сыном — это вечный конфликт и противостояние. Взрослый представитель не хочет, чтобы подрастающий сверг его с пьедестала авторитарности. «С делом Наумом не требовалось соперничать. Он был союзником в борьбе с отцом». А как было в вашей семье?
Так же, как в любых других полных семьях. Сложность отношений «отец-сын» описана еще в древнегреческой мифологии. А вот дедов я не знал вовсе. Оба были убиты Сталиным задолго до моего рождения. Не им лично – созданной им системой.
«Пузырь со сливками все еще пузырь, даже когда речь идет о сливках общества». Читая текст, мы видим, что вся жизнь героя становится пузырем. Но виноват ли в этом герой? Почему он чувствует эту вину?
Не помню, чтоб Игаль-Игорь чувствовал за собой особую вину. Ну, перед своей семьей, допустим, – как это бывает с мужчиной, который завел необязательную интрижку на стороне. Но не более того.
«Биологическое родство — не главное. Дед Наум все равно дед, к тому же заменивший отца. Однако же обидно осознавать, что тебе всю жизнь врали». «Я трахал свою тетку. А мой дед, который и не дед, был убийцей и мучителем». Но ведь герой не несет вину за ошибки прошлого. Или все же несет?
Нет, не несет. Это не его ошибки.
Бабушка Лиза признала в муже совсем другого человека, вернувшегося в войны. А может она и не бабушка. Кто я? «Я хрен знает кто». Вопрос, звучащий в голове героя. Выходит, что это книга о том, что прошлое, которого уже нет, тем не менее ломает нас?
Ну как это «прошлое, которого уже нет»? Человек составлен из прошлого. Настоящее – это прошлое, закамуфлированное надеждами на будущее. Человека может сломать не прошлое, а обрушение прошлого. Сознание, что основа, на которой ты стоишь – фальшивая.
«Мы любили друг друга. Я и твоя мать… Любовь не ваза, которую можно переставить с полки на полку». Это и есть те самые слова об обратном влиянии, которые вы используете в тексте?
Это фраза, означающая только то, что она означает. Что любовь к одному человеку трудно перенаправить на другого. Если вообще возможно.
Конечно, читаю – попробуй удержись. Интересно ведь – причем вне зависимости от того, кто пишет. Интересно, как тебя прочитал умник и как прочитал глупец – и что они при этом поняли. Нельзя одного: радоваться похвалам и огорчаться ругани.
И да – я забываю о тексте, когда он закончен. Книга обычно выходит позже, и мне приходится заставлять себя читать редактуру или гранки. Неинтересно, сплошное мучение. В голове уже новый проект, а тебя тянут в старый.
Есть такая формулировка, что каждый писатель, сколько бы книг он ни написал, всегда пишут одну и ту же книгу. Вы согласны с ней? И если да, то какую книгу вы пишете?
Думаю. Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Я пишу о связях. Выявляю связи в мире, пронизанном ими вдоль и поперек. Как и любой другой писатель – с той или иной степенью успеха.
Что для вас успех?
Закончить книгу. Каждый раз, когда я переваливаю через ее экватор, я начинаю бояться не успеть. Заболеть. Лишиться зрения. Потерять разум. Помереть. И тогда все эти живые люди внутри текста, которых я обещал довести до финального причала, останутся без меня – своего единственного проводника. Это как если бы Творец исчез в разгар сотворения мира. Поэтому я всегда очень радуюсь, поставив последнюю точку. Это и есть для меня успех. А потом перехожу к новому тексту.
Этот страх не успеть — деструктивен? Или это просто часть пути?
Напротив, этот страх конструктивен. Он подгоняет к работе. Вот сейчас я отвечаю на ваши вопросы, а сам думаю: дело-то стоит…
Давайте поговорим о «Шабатоне» — как родилась идея этого текста? И о чем он, если вы готовы отвечать на такой вопрос: многие писатели, с которыми я общался, отказываются давать трактовки своим текстам, говоря, что найти смыслы в тексте — это читательская работа.
Как родилась? Тоже из новостной заметки. Кто-то поехал получать наследство от умершего родственника и вдруг обнаружил за умершим другую, параллельную жизнь. Ну а на вопрос «О чем?», отвечу, как и обещал, одним предложением. Это книга о мифах, которыми мы замещаем реальность; об удобных мифах, в которых мы живем, и о том, что происходит, когда выясняется, что за этими мифами кроется иная, зачастую крайне неприятная правда.
Книга вышла в ростовском издательстве «Феникс», которое активно развивается и радует читателей яркими и классными книгами. Как вы стали сотрудничать с этим издательством?
У меня есть замечательный литературный агент – Ольга Аминова, хозяйка и душа агентства «Флобериум». Она и связала меня с «Фениксом».
Как проходил процесс согласования текста? Расскажите о внутренней кухне работы над книгой. Вас просили что-то переписать, заменить, поправить?
Согласование… гм… А что там согласовывать? Я послушно принимаю правку опечаток и синтаксиса (то есть работу корректора). Значительно реже – поправки, относящиеся к тому или иному словоупотреблению. И совсем редко – вопросы по стилю. А уж о «переписать, заменить, поправить» и вовсе речи не идет. Тут я пас.
Вы открыты к критике? Готовы ли вы вносить правки, если редактор говорит, что это нужно сделать или вы авторитарный автор, который убежден в своем тексте и отстаивает свою позицию?
Второе. Но я бы не назвал себя «авторитарным автором». Я автор, который не готов работать с «авторитарным редактором» – так намного точнее.
Литературные агенты — друзья писателя? Многие начинающие авторы не понимают функцию литагента. Давайте поможем им разобраться в чем эта функция.
Видите ли, я живу далеко-далёко от Москвы, Питера и Ростова. Приезжаю в Россию крайне редко и не по литературным делам. Не располагаю никакими литературными знакомствами. Поэтому для меня литагент – насущная необходимость. С другой стороны, этот институт в России абсолютно неразвит, и в этом ваше кардинальное отличие от Запада, где в одном только Нью– Йорке список агентов занимает сотню страниц справочника. Значит, есть сложившаяся практика, при которой авторы сами контактируют с издательствами и редакциями – дело немыслимое в Америке или в Западной Европе. То есть вы предлагаете мне высказаться о практике, с которой я в принципе незнаком. Лично мне агент нужен – это все, что я могу сказать с полной уверенностью. Возможно, это верно и для авторов по обе стороны МКАД. Не знаю. Наверно, это очень индивидуально.
Хочу поговорить о романе «Шабатон». Ваши слова: «предопределено падение сосуда с водой». А движение молекул — хаотично. Это и есть та самая «незыблемость физических законов», о которой вы пишете в «Шабатоне?»
Одна из. Это известный пример, иллюстрирующий современную точку зрения на детерминизм мира. Она допускает наличие случайности внутри систем, которые в целом, на более общем уровне, ведут себя жестко детерминировано.
Доктор Игорь Сергеевич не признает, что тема отношений с отцом — больная тема. Есть ли в этом некая автобиографичность? Банальный вопрос, но я не могу его не задать. Вы сказали, что на идею романа натолкнула новость. Но в любом тексте всегда есть автор текста. Насколько вы близки к этому тексту или вы просто рассказали историю?
Это забавно. Вы говорите с человеком, написавшим три десятка больших текстов, десятки культурологических эссе, уйму публицистики и несколько пьес. И при этом пытаетесь выловить некую определяющую автобиографичность из одного-единственного прочитанного вами небольшого романа. Хотите поговорить об этом – нет проблем. Чтобы найти автобиографичный текст, стоит прочесть мою двухтомную сагу «Мир тесен для инопланетян» – там и в самом деле есть много автобиографичных элементов. «Шабатон» – не моя история.
Из текста мы видим, что сопромат, сложные расчеты на прогиб и т.д. — часть жизни протагониста. Все это описано довольно подробно и достоверно. Все же текст автобиографичен?
Нет. На факультете вычислительной техники, где я учился, сопромата не было вовсе.
Цитата главного героя: «Дед Наум Григорьевич — человек, которому я обязан всем. Его уход из жизни — самый тяжелый удар, который мне когда-либо приходилось перенести». Чему читатель может научиться и научится ли, читая ваш роман?
Тому, что мифы, из которых состроена наша личность далеко не всегда соответствуют действительности. Это далеко не всегда сказывается. Скажем, человек проживает в тайге. Есть действительность, которую он обязан знать в точности, иначе не выживет. Особенности округи, тропы, способы выживания и проч. Тут мифами не обойдешься. А что касается всего остального, можно, особо не вникая, принять мнение школьного учебника, телевизора, соседей, пары-тройки прочитанных случайных книжек. То есть весь огромный мир, окружающий этот участок тайги, для него – миф, нечто рассказанное, крайне поверхностное, необязательно верное. Так можно родиться, жить и умереть. Но представим, что его вынули из тайги и переселили в совершенно иное место, где нужны другие знания и другие навыки. Там он неизбежно столкнется с фактом, что мир не таков, каким его рисуют мифы.
Жизнь, как хорошо рассчитанная инженерная конструкция, которую подарил дед Наум, рушится. За героем стояла мощная сила — дед Наум? И вот лед дал трещину и сквозь щели лезут сомнения.
Да, как в примере с тайгой. Человек внезапно сталкивается с фактом, свидетельствующим о наличии иной реальности. И это выбивает его из колеи.
Отношения между отцом и сыном — это вечный конфликт и противостояние. Взрослый представитель не хочет, чтобы подрастающий сверг его с пьедестала авторитарности. «С делом Наумом не требовалось соперничать. Он был союзником в борьбе с отцом». А как было в вашей семье?
Так же, как в любых других полных семьях. Сложность отношений «отец-сын» описана еще в древнегреческой мифологии. А вот дедов я не знал вовсе. Оба были убиты Сталиным задолго до моего рождения. Не им лично – созданной им системой.
«Пузырь со сливками все еще пузырь, даже когда речь идет о сливках общества». Читая текст, мы видим, что вся жизнь героя становится пузырем. Но виноват ли в этом герой? Почему он чувствует эту вину?
Не помню, чтоб Игаль-Игорь чувствовал за собой особую вину. Ну, перед своей семьей, допустим, – как это бывает с мужчиной, который завел необязательную интрижку на стороне. Но не более того.
«Биологическое родство — не главное. Дед Наум все равно дед, к тому же заменивший отца. Однако же обидно осознавать, что тебе всю жизнь врали». «Я трахал свою тетку. А мой дед, который и не дед, был убийцей и мучителем». Но ведь герой не несет вину за ошибки прошлого. Или все же несет?
Нет, не несет. Это не его ошибки.
Бабушка Лиза признала в муже совсем другого человека, вернувшегося в войны. А может она и не бабушка. Кто я? «Я хрен знает кто». Вопрос, звучащий в голове героя. Выходит, что это книга о том, что прошлое, которого уже нет, тем не менее ломает нас?
Ну как это «прошлое, которого уже нет»? Человек составлен из прошлого. Настоящее – это прошлое, закамуфлированное надеждами на будущее. Человека может сломать не прошлое, а обрушение прошлого. Сознание, что основа, на которой ты стоишь – фальшивая.
«Мы любили друг друга. Я и твоя мать… Любовь не ваза, которую можно переставить с полки на полку». Это и есть те самые слова об обратном влиянии, которые вы используете в тексте?
Это фраза, означающая только то, что она означает. Что любовь к одному человеку трудно перенаправить на другого. Если вообще возможно.
