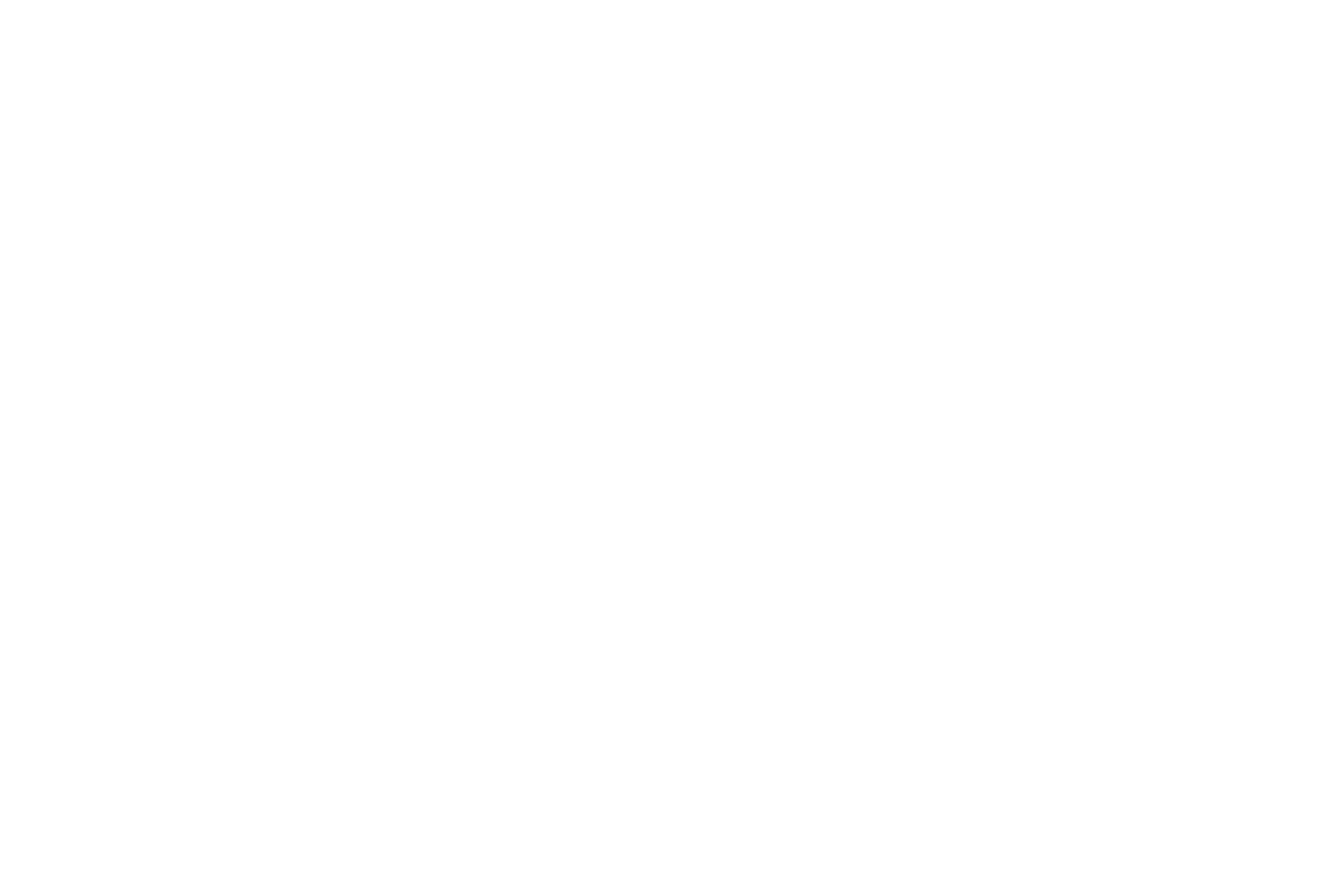
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Фантастика – это королева жанров».
Редакция «Хемингуэй позвонит» вызвала на допрос пристрастием авторов издательства «Феникс», писателей Дарину Стрельченко и Александра Мазина. Мы поговорили о фантастике, графоманах, процессе написания текста и, конечно, задались вопросом, зачем вообще люди пишут книги. Кстати, вот телеграм-канал Дарины. А еще она основала классное литературное сообщество в ВК.
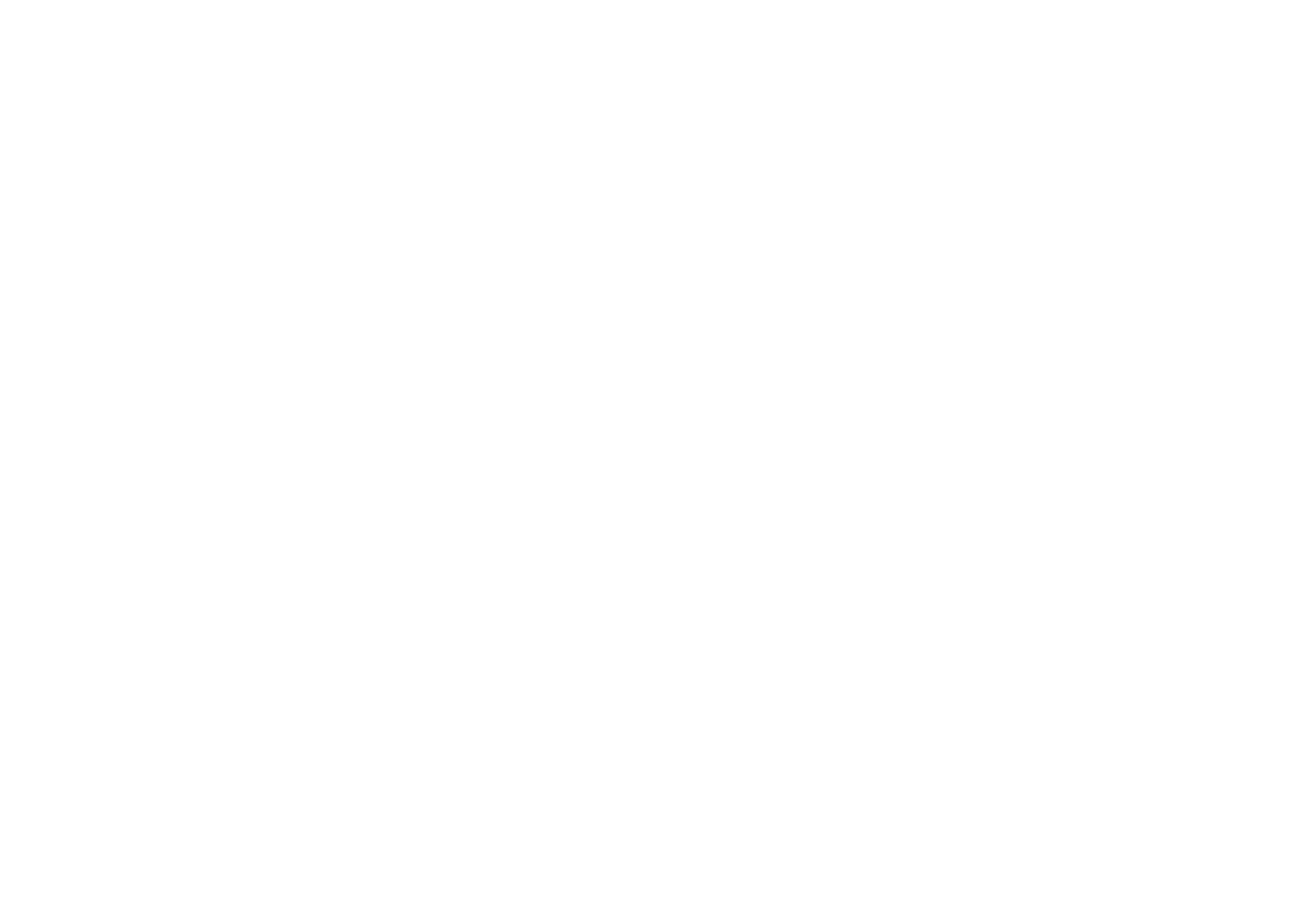
Александр Мазин и Дарина Стрельченко
– Мой первый вопрос касается фантастически жанра как такового – что это такое и как вы можете определить этот жанр?
Александр: – Вся литература – это фантастика, потому что – фантазия. Но сама фантастика – это десятки жанров. И у каждого жанра фантастики есть свои коды: у романтического фэнтези одни коды, у постапа – другие, у большой литературы в фантастике (вариант, например, Джорджа Мартина) – третьи.
Вообще за рубежом строгих разграничений, вот это БолЛит, а это так, фантастика, в отличие от России, нет. И там, если писатель пишет действительно хорошо, его просто определяют в мейнстрим. В России же мейнстрим и сам весьма своеобразный, и в фантастике мы тоже отстаём от Запада лет на пятьдесят, что печально. Но это факт.
В 1999 когда я делал свой исторический проект, историко-приключенческой литературы современной не было. А фантастика была. Так что у меня просто не было выбора. Книготорговцы сказали: смотри, здесь лежит фантастика, а здесь лежит детектив, ну а где твоя история? И проект историческая авантюра стал фантастикой, а позже превратился в историческую фантастику. И это неплохо. Фантастика – самый читаемый жанр в мире, это самые популярные фильмы (за исключением разве что сериальных мелодрам). Фантастика – основа успеха, потому что если в любую историю добавить фантастику, то она сразу оживает. Например, взять Татьяну Толстую, одного из самых крутых авторов мейнстрима. Когда ей нужно было вернуться на рынок, она написала «Кысь», то есть чисто фантастический роман. Толстая в фантастике разбиралась слабо, как и ее читательницы, поэтому с «Кысь» у неё получился деревянный велосипед, но это был велосипед с очень красивой резьбой. Всем понравилось.
Фантастика хороша тем, что она реализует практически любые жанры. Например, у меня читателей фантастики – треть, остальные читатели истории. Ромфант сегодня вообще жанр номер один в фантастике, потому что прекрасная половина человечества, склонная к романтике, раскусила, наконец, всю прелесть фантастического женского романа.
Но у фантастики есть и обратная сторона. Она перетягивает историю на себя. Если в обычную историю добавить чудо, то всё остальное сразу забывается, вся бытовуха отходит на второй план. Поэтому фантастика – это королева жанров.
Дарина: – Моё определение фантастики будет немного другим. Наверное, потому что у нас с Александром разные, хотя и в чём-то пересекающиеся круги чтения. С одной стороны, я согласна, что вся литература – это фантастика, но, с другой стороны, я бы отталкивалась от определения того, что фантастика – это искусство воображения. Фантастика отталкивается прежде всего от фантастического допущения, важного элемента в любом поджанре – фэнтези, сказке, скайфае. И во всех поджанрах есть свои нюансы.
Александр: – Я бы сказал, что сказка – это всё-таки другое, там правила другие.
Дарина: – Ну да, правила другие, но я бы отнесла всё же сказку тоже к поджанру фантастики.
Александр: – Если рассматривать сказку не с писательской точки зрения, а через призму аналитики, то различия есть. Например, в сказке фантастическое допущение можно не обосновывать. Например если в фэнтези происходит что-то чудесное, возникает какая-то магия, то её нужно как-то объяснить, придумать мотивацию. В сказке же мотивация необязательна, в сказке что-то происходит согласно законам сказки.
Вообще, у каждого жанра есть свой негласный договор с читателем жанра. В нем прописываются правила построения произведения. Сказке в этом плане проще, потому что она не стеснена формальностями. И поэтому сказки нравятся детям: дети никаких правил в литературе не знают, они доверчивы и способны воспринять сказочную историю без критического анализа взрослых.
Дарина: – Спасибо за уточнение. Но, если возвращаться всё же к определению того, что такое в моём понимании фантастика, то это всё, что имеет в корне фантастическое допущение. Автор даёт читателю какое-то фантдопущение, а дальше уже читатель волен сам воображать, дополнять в своей голове всё, что он хочет вне рамок реализма.
Александр: – Вся литература – это фантастика, потому что – фантазия. Но сама фантастика – это десятки жанров. И у каждого жанра фантастики есть свои коды: у романтического фэнтези одни коды, у постапа – другие, у большой литературы в фантастике (вариант, например, Джорджа Мартина) – третьи.
Вообще за рубежом строгих разграничений, вот это БолЛит, а это так, фантастика, в отличие от России, нет. И там, если писатель пишет действительно хорошо, его просто определяют в мейнстрим. В России же мейнстрим и сам весьма своеобразный, и в фантастике мы тоже отстаём от Запада лет на пятьдесят, что печально. Но это факт.
В 1999 когда я делал свой исторический проект, историко-приключенческой литературы современной не было. А фантастика была. Так что у меня просто не было выбора. Книготорговцы сказали: смотри, здесь лежит фантастика, а здесь лежит детектив, ну а где твоя история? И проект историческая авантюра стал фантастикой, а позже превратился в историческую фантастику. И это неплохо. Фантастика – самый читаемый жанр в мире, это самые популярные фильмы (за исключением разве что сериальных мелодрам). Фантастика – основа успеха, потому что если в любую историю добавить фантастику, то она сразу оживает. Например, взять Татьяну Толстую, одного из самых крутых авторов мейнстрима. Когда ей нужно было вернуться на рынок, она написала «Кысь», то есть чисто фантастический роман. Толстая в фантастике разбиралась слабо, как и ее читательницы, поэтому с «Кысь» у неё получился деревянный велосипед, но это был велосипед с очень красивой резьбой. Всем понравилось.
Фантастика хороша тем, что она реализует практически любые жанры. Например, у меня читателей фантастики – треть, остальные читатели истории. Ромфант сегодня вообще жанр номер один в фантастике, потому что прекрасная половина человечества, склонная к романтике, раскусила, наконец, всю прелесть фантастического женского романа.
Но у фантастики есть и обратная сторона. Она перетягивает историю на себя. Если в обычную историю добавить чудо, то всё остальное сразу забывается, вся бытовуха отходит на второй план. Поэтому фантастика – это королева жанров.
Дарина: – Моё определение фантастики будет немного другим. Наверное, потому что у нас с Александром разные, хотя и в чём-то пересекающиеся круги чтения. С одной стороны, я согласна, что вся литература – это фантастика, но, с другой стороны, я бы отталкивалась от определения того, что фантастика – это искусство воображения. Фантастика отталкивается прежде всего от фантастического допущения, важного элемента в любом поджанре – фэнтези, сказке, скайфае. И во всех поджанрах есть свои нюансы.
Александр: – Я бы сказал, что сказка – это всё-таки другое, там правила другие.
Дарина: – Ну да, правила другие, но я бы отнесла всё же сказку тоже к поджанру фантастики.
Александр: – Если рассматривать сказку не с писательской точки зрения, а через призму аналитики, то различия есть. Например, в сказке фантастическое допущение можно не обосновывать. Например если в фэнтези происходит что-то чудесное, возникает какая-то магия, то её нужно как-то объяснить, придумать мотивацию. В сказке же мотивация необязательна, в сказке что-то происходит согласно законам сказки.
Вообще, у каждого жанра есть свой негласный договор с читателем жанра. В нем прописываются правила построения произведения. Сказке в этом плане проще, потому что она не стеснена формальностями. И поэтому сказки нравятся детям: дети никаких правил в литературе не знают, они доверчивы и способны воспринять сказочную историю без критического анализа взрослых.
Дарина: – Спасибо за уточнение. Но, если возвращаться всё же к определению того, что такое в моём понимании фантастика, то это всё, что имеет в корне фантастическое допущение. Автор даёт читателю какое-то фантдопущение, а дальше уже читатель волен сам воображать, дополнять в своей голове всё, что он хочет вне рамок реализма.
У фантастики есть и обратная сторона. Она перетягивает историю на себя. Если в обычную историю добавить чудо, то всё остальное сразу забывается, вся бытовуха отходит на второй план. Поэтому фантастика – это королева жанров.
– Прозвучала довольно интересная мысль о наличии определённых законов и правил в фантастике. И с одной стороны, нам кажется, что мы, как авторы, свободны, с ограничением разве что рамок своего воображения. Но при этом есть некие каноны, о которых сказал Александр, в рамках которых должен работать писатель, это некий фарватер, в котором мы движемся, потому что у читателей есть свои ожидания.
Тогда у меня вопрос к Дарине – насколько вы учитываете этот фактор? Или же стараетесь переизобрести жанр? Да и нужно ли, на самом деле, что-то переизобретать? Потому что понятно: есть люди, которые хотят чего-то нового, но вообще-то новое – это хорошо забытое старое, и мы все так или иначе опираемся на Проппа, на те сказки, которые слышали с детства.
Дарина: – Есть такое понятие – ожидание читателей, которые хотят, чтобы им дали то, что уже было, но под другим соусом. Я с этим согласна, и, как автору, мне бы хотелось этому следовать. Когда я сама пишу, я держу эту установку в голове, но в целом не думаю, что мне нужно изобретать что-то прямо совершенно новое, как-то революционно придумывать новые архетипы, новые сюжеты или изобретать что-то такое, что не было написано до меня. Всё, что мы пишем, уже было до нас, но не было нас.
Сейчас я пишу повесть в сеттинге альтернативной викторианской Англии – это что-то немного лавкрафтовское, что-то немного в стиле ромфанта, то есть всё то, что уже было где-то у кого-то. Но я это пишу, потому что мне это безумно нравится, и я просто беру отовсюду понемногу, пишу, а получится что-то, что уже было, но рассказанное на новый лад.
Поэтому я согласна с тем, что договор автора с читателем есть. И когда ты пишешь, ты волей-неволей соблюдаешь установленные правила, эти правила работают, пожалуй, для всех начитанных авторов. Лично я следовать правилам досконально не хочу, у меня было несколько таких попыток, но закончились они плохо – всё ушло в скелет, в архитектуру произведения, и ничего хорошего из этого не вышло. Но когда ты имеешь в голове эти правила и установки, когда у тебя за плечами какие-то курсы, личные наблюдения и анализ других книг, то это помогает тебе в твоём творчестве.
Александр: – Я понимаю, о чём говорит Дарина, и объясню это сейчас с профессиональной точки зрения.
Дело в том, что вы творите, создаете истории, одной стороной мозга, если можно так выразиться, а анализируете – другой. Это разные процессы, творение и анализ.
Анализ нужен автору в двух случаях. Когда текст написан и его надо отредактировать, структурно в первую очередь. И когда автор оказался в творческом тупике писал-писал, внезапно остановился, потому что дальше текст не идёт. Тогда вы включаете анализ, возвращаетесь обратно и пытаетесь понять, где и почему что-то пошло не так. Вы находите это место, исправляете и возвращаетесь на правильную дорогу.
Вообще же, сам процесс творчества очень своеобразен. Вы работаете, пишете текст, и он в процессе сам «подбрасывает» творцу подсказки, куда идти, что сделать главным. Потому писать большую форму проще. Есть принципиальная разница в работе с романами и рассказами. Рассказ лучше пишется тогда, когда заранее знаешь финал. Роман пишется чаще фрагментами, отдельными событиями, но только тогда, когда автор понимает, в каком направлении ему двигаться. А финал в романе возникает раньше, чем написано все. Обычно на третьей четверти текста. А бывает, он не возникает вообще и это, на самом деле, грустно. Потому что тогда появляются финалы искусственные, надуманные, собранные вроде бы по всем правилам, но формальные, конструктивные. А есть финалы настоящие, возникающие незадолго перед тем, как автор подходит к завершению, но подходит естественно, так, как и нужно.
И ещё, хотел бы немного вернуться к чаяниям читателей. Чего вообще хочет читатель? Он хочет поверить в историю писателя. Да, читатели разные. Женская аудитория, например, более доверчива в целом, но очень внимательна к эмоциональному спектру. Но люди в любом случае хотят поверить в историю, а как убедить читателя в том, чего нет. И он знает, что этого не существует? Например, в фантастике. Есть варианты: использовать знакомые предметы. Можно упомянуть, что у капитана есть любимая чашка с щербинкой. Читатель понимает такие детали и он начинает верить в саму историю. Но их должно быть много и они должны быть безупречными, потому что уровень достоверности в фантастике должен быть значительно выше уровня достоверности, скажем, детектива. Детектив – это о реальности, нам понятной и знакомой. А в фантастике достоверность создаётся по-другому, именно за счет конкретных деталей, связывающих фантастику и реализм.
– К вопросу достоверности… Хотелось бы услышать мнение и Дарины. Дарина, вы как создаёте в своих историях достоверность? И как вы вообще пишете: для вас текст – это архитектура или некий поток, который непонятно куда завернёт? Кто вы, как автор, архитектор или садовник?
Дарина: – Я очень рада услышать мысль про детали, потому что сама считаю, что это одна из основных вещей, которая создаёт достоверность в произведении. Иногда детали, как мне кажется, «вытаскивают» и некоторые бессюжетные вещи.
К вопросу того, архитектор ли я текста или садовник… Я начинала с того, что была полностью садовником. И это привело к очень большому разочарованию, когда вышла первая книга: плоды своего садовничества я пожала в полной мере в виде далеко не всегда позитивной обратной связи. Но вообще, мне кажется, если ты пишешь долгое время, то ты естественным образом превращаешься из садовника в архитектора.
С другой стороны, сильный уклон в архитектуру тоже плох, поскольку магия незаметно превращается в ремесло. Тогда из текста уходит всё живое, то самое чудо текста, благодаря которому читатель может нырнуть в текст. У меня сейчас процесс устроен так: я точно знаю, что у меня должно быть начало, я должна знать, что будет в конце. И желательно – в середине. С этим я могу начать рассказ, а если речь идёт о более крупной форме, то я пишу подробный поглавник. Это помогает мне не растечься мыслью по древу, но и не убивает магию, удовольствие от процесса творчества. Для меня состояние потока при написании текста до сих пор одно из самых больших удовольствий.
И, честно говоря, услышав от Александра фразу о том, что финал должен начать вырисовываться ближе к трём четвертям книги, восприняла это как новую для себя фишку. У меня так никогда не получалось: когда я не продумываю схему текста заранее, то я о финале не знаю до самого финала. А когда я продумываю схему, то мне финал ясен изначально. Но вообще я думаю, что автор опытный, пишущий достаточно долго, так или иначе выбирает тот подход, который удобен лично ему.
Александр: – Это как негатив: когда ты опускаешь бумагу в проявитель и на нём начинает появляться очертания будущей фотографии.
Дарина: – Да-да-да, это очень хорошая метафора. Мне кажется, что я могла бы начать писать, заранее ничего не продумывая (и я так, на самом деле, делала не раз), но, возможно, у меня до сих пор не тот уровень профессионализма или мастерства, чтобы сделать логичный финал таким образом. У меня и сейчас иногда финалы недотянутые, а уж если я не буду что-то продумывать заранее, то получится совсем уж кисель.
Александр: – Ну давайте я тогда уж отыграю роль мастера до конца, потому что я выпустил в литературный мир более сотни писателей, среди которых немало фантастов.
Фишка в чём. У нас сейчас нет настоящей системы литературного мастерства. Актерские школы есть, а литературных нет. Имеется множество курсов, которые вроде бы обучают людей писать. Но эти курсы в чём-то похожи на вебинары по психологии: люди на них получают знания достаточные, чтобы запустить собственный психологический курс для того, чтобы подготовить новых психологов, и так до бесконечности. Есть, конечно, и полезные материалы. Например книга Роберта Макки «Story», в русском переводе «История на миллион долларов». Да он прежде всего сценарист, но 80% этого учебника можно использовать при написании книг. Хотя сам Макки честно пишет, что его материал можно усвоить только при непосредственном участии мастера, то есть самого Макки
Но Макки – для творцов. А большинство учебников, в том числе зарубежных – для тех, кто работает с уже готовыми текстами. Голливуде есть так называемые «улучшатели сценариев». Это люди, которые получают готовый качественный текст и сравнивают его с другими вещами. Они прекрасно рассказывают о том, как прописать структуру, визуализировать отдельные сцены и т. д. Но сами они как правило, ничего не создают. Только дают советы. И такие советы ни на секунду не приближают авторов к созданию текстов, а в каких-то случаях даже мешают. Потому что они не о творчестве. Они о маркетинге.
В большинстве случаев автору достаточно трех вещей. Первая – это правильный герой, это тот герой, который подходит под замысел конкретной книги. Вторая – это достоверный мир, в котором происходит действие книги. И третья – это общее понимание сюжетного направления (скажем, на три-пять глав вперёд). Таким образом, прежде всего автору нужно научиться двигать героя вперёд по тексту в условиях достоверно продуманного книжного мира. Это важно особенно для тех, кто сейчас пишет многосерийные истории (хотя, я рекомендую и в каждой книге серии всё же делать четкий финал, делать каждую историю законченной и автономной. Это признак профессионала, а быть профессионалом важно, потому что зарабатывать в России писательским трудом сейчас очень сложно. Если раньше у нас было тысячи профессиональных писателей, то сейчас их осталось на всю страну человек пятьдесят. Писательский труд он тяжёлый, и кормиться за счёт него очень сложно. Но это прекрасный труд. Когда человек пишет книгу, он словно проживает еще одну жизнь. И вот это чувство очень важно в себе сохранять, тут Дарина важную вещь подмечает, потому что без этого кайфа, который тащит автора через текст, он становится простым ремесленником.
Дарина: – Мне кажется, что таким вот ремесленником и можно стать, если ты всегда пытаешься следовать при написании книг каким-то усвоенным схемам.
Александр: – Ну, не всегда так. Смотрите: вы написали десять книг, стали профессионалом, и больше не задумываетесь о том, как творчески реализовать свой замысел. Уровень при этом может быть разным. Есть так называемая языковая проза – в ней очень глубокий уровень проработки языка и психологии. Есть варианты жанровой прозы, не требующие глубокого погружения и столь тщательной работы с языком. Схемы – это ремесло. А ремесло – это часть профессионализма, который в свою очередь часть мастерства. Профессионализм – это когда человек, в принципе, даже не задумывается над тем, как он будет воплощать пришедшую ему в голову конкретную сцену. Профессионализм – это ремесло, доведённое до автоматизма.
Тогда у меня вопрос к Дарине – насколько вы учитываете этот фактор? Или же стараетесь переизобрести жанр? Да и нужно ли, на самом деле, что-то переизобретать? Потому что понятно: есть люди, которые хотят чего-то нового, но вообще-то новое – это хорошо забытое старое, и мы все так или иначе опираемся на Проппа, на те сказки, которые слышали с детства.
Дарина: – Есть такое понятие – ожидание читателей, которые хотят, чтобы им дали то, что уже было, но под другим соусом. Я с этим согласна, и, как автору, мне бы хотелось этому следовать. Когда я сама пишу, я держу эту установку в голове, но в целом не думаю, что мне нужно изобретать что-то прямо совершенно новое, как-то революционно придумывать новые архетипы, новые сюжеты или изобретать что-то такое, что не было написано до меня. Всё, что мы пишем, уже было до нас, но не было нас.
Сейчас я пишу повесть в сеттинге альтернативной викторианской Англии – это что-то немного лавкрафтовское, что-то немного в стиле ромфанта, то есть всё то, что уже было где-то у кого-то. Но я это пишу, потому что мне это безумно нравится, и я просто беру отовсюду понемногу, пишу, а получится что-то, что уже было, но рассказанное на новый лад.
Поэтому я согласна с тем, что договор автора с читателем есть. И когда ты пишешь, ты волей-неволей соблюдаешь установленные правила, эти правила работают, пожалуй, для всех начитанных авторов. Лично я следовать правилам досконально не хочу, у меня было несколько таких попыток, но закончились они плохо – всё ушло в скелет, в архитектуру произведения, и ничего хорошего из этого не вышло. Но когда ты имеешь в голове эти правила и установки, когда у тебя за плечами какие-то курсы, личные наблюдения и анализ других книг, то это помогает тебе в твоём творчестве.
Александр: – Я понимаю, о чём говорит Дарина, и объясню это сейчас с профессиональной точки зрения.
Дело в том, что вы творите, создаете истории, одной стороной мозга, если можно так выразиться, а анализируете – другой. Это разные процессы, творение и анализ.
Анализ нужен автору в двух случаях. Когда текст написан и его надо отредактировать, структурно в первую очередь. И когда автор оказался в творческом тупике писал-писал, внезапно остановился, потому что дальше текст не идёт. Тогда вы включаете анализ, возвращаетесь обратно и пытаетесь понять, где и почему что-то пошло не так. Вы находите это место, исправляете и возвращаетесь на правильную дорогу.
Вообще же, сам процесс творчества очень своеобразен. Вы работаете, пишете текст, и он в процессе сам «подбрасывает» творцу подсказки, куда идти, что сделать главным. Потому писать большую форму проще. Есть принципиальная разница в работе с романами и рассказами. Рассказ лучше пишется тогда, когда заранее знаешь финал. Роман пишется чаще фрагментами, отдельными событиями, но только тогда, когда автор понимает, в каком направлении ему двигаться. А финал в романе возникает раньше, чем написано все. Обычно на третьей четверти текста. А бывает, он не возникает вообще и это, на самом деле, грустно. Потому что тогда появляются финалы искусственные, надуманные, собранные вроде бы по всем правилам, но формальные, конструктивные. А есть финалы настоящие, возникающие незадолго перед тем, как автор подходит к завершению, но подходит естественно, так, как и нужно.
И ещё, хотел бы немного вернуться к чаяниям читателей. Чего вообще хочет читатель? Он хочет поверить в историю писателя. Да, читатели разные. Женская аудитория, например, более доверчива в целом, но очень внимательна к эмоциональному спектру. Но люди в любом случае хотят поверить в историю, а как убедить читателя в том, чего нет. И он знает, что этого не существует? Например, в фантастике. Есть варианты: использовать знакомые предметы. Можно упомянуть, что у капитана есть любимая чашка с щербинкой. Читатель понимает такие детали и он начинает верить в саму историю. Но их должно быть много и они должны быть безупречными, потому что уровень достоверности в фантастике должен быть значительно выше уровня достоверности, скажем, детектива. Детектив – это о реальности, нам понятной и знакомой. А в фантастике достоверность создаётся по-другому, именно за счет конкретных деталей, связывающих фантастику и реализм.
– К вопросу достоверности… Хотелось бы услышать мнение и Дарины. Дарина, вы как создаёте в своих историях достоверность? И как вы вообще пишете: для вас текст – это архитектура или некий поток, который непонятно куда завернёт? Кто вы, как автор, архитектор или садовник?
Дарина: – Я очень рада услышать мысль про детали, потому что сама считаю, что это одна из основных вещей, которая создаёт достоверность в произведении. Иногда детали, как мне кажется, «вытаскивают» и некоторые бессюжетные вещи.
К вопросу того, архитектор ли я текста или садовник… Я начинала с того, что была полностью садовником. И это привело к очень большому разочарованию, когда вышла первая книга: плоды своего садовничества я пожала в полной мере в виде далеко не всегда позитивной обратной связи. Но вообще, мне кажется, если ты пишешь долгое время, то ты естественным образом превращаешься из садовника в архитектора.
С другой стороны, сильный уклон в архитектуру тоже плох, поскольку магия незаметно превращается в ремесло. Тогда из текста уходит всё живое, то самое чудо текста, благодаря которому читатель может нырнуть в текст. У меня сейчас процесс устроен так: я точно знаю, что у меня должно быть начало, я должна знать, что будет в конце. И желательно – в середине. С этим я могу начать рассказ, а если речь идёт о более крупной форме, то я пишу подробный поглавник. Это помогает мне не растечься мыслью по древу, но и не убивает магию, удовольствие от процесса творчества. Для меня состояние потока при написании текста до сих пор одно из самых больших удовольствий.
И, честно говоря, услышав от Александра фразу о том, что финал должен начать вырисовываться ближе к трём четвертям книги, восприняла это как новую для себя фишку. У меня так никогда не получалось: когда я не продумываю схему текста заранее, то я о финале не знаю до самого финала. А когда я продумываю схему, то мне финал ясен изначально. Но вообще я думаю, что автор опытный, пишущий достаточно долго, так или иначе выбирает тот подход, который удобен лично ему.
Александр: – Это как негатив: когда ты опускаешь бумагу в проявитель и на нём начинает появляться очертания будущей фотографии.
Дарина: – Да-да-да, это очень хорошая метафора. Мне кажется, что я могла бы начать писать, заранее ничего не продумывая (и я так, на самом деле, делала не раз), но, возможно, у меня до сих пор не тот уровень профессионализма или мастерства, чтобы сделать логичный финал таким образом. У меня и сейчас иногда финалы недотянутые, а уж если я не буду что-то продумывать заранее, то получится совсем уж кисель.
Александр: – Ну давайте я тогда уж отыграю роль мастера до конца, потому что я выпустил в литературный мир более сотни писателей, среди которых немало фантастов.
Фишка в чём. У нас сейчас нет настоящей системы литературного мастерства. Актерские школы есть, а литературных нет. Имеется множество курсов, которые вроде бы обучают людей писать. Но эти курсы в чём-то похожи на вебинары по психологии: люди на них получают знания достаточные, чтобы запустить собственный психологический курс для того, чтобы подготовить новых психологов, и так до бесконечности. Есть, конечно, и полезные материалы. Например книга Роберта Макки «Story», в русском переводе «История на миллион долларов». Да он прежде всего сценарист, но 80% этого учебника можно использовать при написании книг. Хотя сам Макки честно пишет, что его материал можно усвоить только при непосредственном участии мастера, то есть самого Макки
Но Макки – для творцов. А большинство учебников, в том числе зарубежных – для тех, кто работает с уже готовыми текстами. Голливуде есть так называемые «улучшатели сценариев». Это люди, которые получают готовый качественный текст и сравнивают его с другими вещами. Они прекрасно рассказывают о том, как прописать структуру, визуализировать отдельные сцены и т. д. Но сами они как правило, ничего не создают. Только дают советы. И такие советы ни на секунду не приближают авторов к созданию текстов, а в каких-то случаях даже мешают. Потому что они не о творчестве. Они о маркетинге.
В большинстве случаев автору достаточно трех вещей. Первая – это правильный герой, это тот герой, который подходит под замысел конкретной книги. Вторая – это достоверный мир, в котором происходит действие книги. И третья – это общее понимание сюжетного направления (скажем, на три-пять глав вперёд). Таким образом, прежде всего автору нужно научиться двигать героя вперёд по тексту в условиях достоверно продуманного книжного мира. Это важно особенно для тех, кто сейчас пишет многосерийные истории (хотя, я рекомендую и в каждой книге серии всё же делать четкий финал, делать каждую историю законченной и автономной. Это признак профессионала, а быть профессионалом важно, потому что зарабатывать в России писательским трудом сейчас очень сложно. Если раньше у нас было тысячи профессиональных писателей, то сейчас их осталось на всю страну человек пятьдесят. Писательский труд он тяжёлый, и кормиться за счёт него очень сложно. Но это прекрасный труд. Когда человек пишет книгу, он словно проживает еще одну жизнь. И вот это чувство очень важно в себе сохранять, тут Дарина важную вещь подмечает, потому что без этого кайфа, который тащит автора через текст, он становится простым ремесленником.
Дарина: – Мне кажется, что таким вот ремесленником и можно стать, если ты всегда пытаешься следовать при написании книг каким-то усвоенным схемам.
Александр: – Ну, не всегда так. Смотрите: вы написали десять книг, стали профессионалом, и больше не задумываетесь о том, как творчески реализовать свой замысел. Уровень при этом может быть разным. Есть так называемая языковая проза – в ней очень глубокий уровень проработки языка и психологии. Есть варианты жанровой прозы, не требующие глубокого погружения и столь тщательной работы с языком. Схемы – это ремесло. А ремесло – это часть профессионализма, который в свою очередь часть мастерства. Профессионализм – это когда человек, в принципе, даже не задумывается над тем, как он будет воплощать пришедшую ему в голову конкретную сцену. Профессионализм – это ремесло, доведённое до автоматизма.
Писательский труд тяжёлый, и кормиться за счёт него очень сложно. Но это прекрасный труд. Когда человек пишет книгу, он словно проживает еще одну жизнь.
– У меня есть интересный вопрос. Когда мы разговаривали с Бернаром Вербером, он сказал, что написание текста – это некое трансовое состояние, в которое он, как писатель, впадает, и в котором окружающий мир для него перестаёт существовать. Если сравнивать писательство условно с наркоманией – как сохранить в себе этот кайф? Ведь у наркоманов как: чем больше употребляешь, тем больше стремишься к этому, но со временем яркость ощущений от получаемого кайфа притупляется.
Дарина: – Я не могу сказать, что у меня что-то притупляется со временем. Ты просто начинаешь понимать, чего ожидать после того, как ты войдёшь в режим потока при написании текста. Иногда бывает, что ты пишешь какой-то текст к конкурсу, поспевая к дедлайну, зная, что текст нужно сдать к определённой дате, – в таких случаях ощущения потока обычно не бывает. Реальный, настоящий кайф сейчас возникает только тогда, когда пишешь что-то по собственному желанию. Тогда погружаешься в текст настолько, что реальный мир отступает на второй план, а на первый план выступает мир из твоего текста, он на какое-то время и становится более реальным, настоящим, живым. Это ощущение возникает как бы вне меня, и у меня нет рецепта, как в него войти – просто иногда ты входишь в этот поток и им наслаждаешься. От того, насколько часто я испытываю этот состояние, чистота переживаний и ясность восприятия кайфа не становится меньше, эти ощущения не становятся хуже. Это та восхитительная награда за все часы, проведённые за текстом.
Александр: – То, о чём говорит Дарина, – это классический вариант погружения в текст у одарённого человека. Хотя любители пишут тогда, когда им припрёт. А профессионалы – работают всегда. Они умеют входить в этот поток.
– А в чем разница между графоманом и профессионалом? Это также очень важный вопрос, потому что графоманы тоже фактически пишут всегда.
Александр: – Графоманы не могут адекватно оценить уровень того, что они пишут. А талант позволяет более-менее объективно оценить собственный текст и с ним работать.
И ещё хочется добавить к тому, о чём говорила ранее Дарина. Состояние творческого потока можно сравнить с любовью, ты погружаешься в неё, это чувство тебя полностью захватывает. Но, как и в любви, очень важно не изменять своему писательскому дару. Случается, что у автора есть хороший творческий потенциал, но деньги он предпочитает зарабатывать, например, копирайтингом. И без должного контроля он может потерять свой дар. Это самое важное. Потому техники, которым я учу, направлены как раз на сохранение в себе творческого дара. Часто бывает так: несколько лет автора несёт творческий поток, а потом что-то выключается, и внезапно наступает этакая творческая импотенция. И это для писателя самое ужасное. Потерять дар.
Но работать в других форматах бывает полезно. я сам время от времени участвую в подобных проектах: сейчас у меня в работе сценарий к опере. Но это не халтура. Это другой вид творчества и я так его и буду делать, творчески.
– Что значит в таких случаях – делать творчески?
Александр: – Это то, о чём и говорила Дарина: писать для себя, изнутри. В качестве такого примера я рекомендую повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди». В ней потрясающий пример реализации творческого человека. Творца невозможно загнать в какие-то рамки. Он может ими пользоваться, но только если они помогают творить. Проблема каждого такого человека, пишущего, допустим, тексты для конкурсов, в том, что он старается влезть в рамки, а не использовать их. Тогда работа превращается в рутину, а тексты мертвеют. Ты написал двадцать рассказов на конкурс, а двадцать первый рассказ получается уже неживым.
Дар как бы истончается, но дар – это такая вещь, которая тебе досталась даром, ты её не заработал. Само по себе умение писать, конструировать слова в предложения – это техника, которую ты освоил самостоятельно, она остаётся с тобой навсегда. А дар – он сверху, его тебе дали для того, чтобы ты создавал текст, который будут читать, оказывающий эмоциональное воздействие на читателя. И если ты этого не делаешь, то дар умирает.
– Мне казалось, что уметь оказывать эмоциональное воздействие – это как раз ремесло, то, что относится к технике.
Александр: – Ремесло – это часть мастерства. Вообще, есть несколько уровней мастерства. Первый уровень – самый простой, интеллектуальный. Технический анализ текста: разобрать, где и что у тебя правильно/неправильно, где-то улучшить сюжет, какую-то главу убрать и так далее.
Второй уровень – мотивация. Для писателей самая главная мотивация – вдохновение. Остальные мотивации, второстепенные, это деньги, дедлайн и прочее. Вдохновение главное. Оно - та энергия, которая формируется внутри. Этому можно научиться, , нужно научиться, но это, пожалуй, самая трудная часть профессии. И самая важная.
Дарина: – К вопросу о создании эмоции как составляющей профессионализма… Ты понимаешь, что есть определённые педали, нажимая на которые, ты можешь вызывать у читателей какие-то чувства. Но это же правда ремесленный уровень: ты это сделаешь через текст, вызовешь чувства, эмоции, но ненадолго, читатель скоро об этом забудет. Но бывает и так, что, прочитав какую-то сцену и закрыв книгу, читатель не забывает, настолько это его задевает эмоционально. И вот этот писательский уровень – это уже не ремесленное нажатие педалей, это что-то большее.
– Я хочу, Дарина, сейчас спросить вас не как писателя, а как читателя. Какая прочитанная книга вам запомнилась? И что для вас в других книгах резонирует, почему одна история запоминается, а другая нет?
Дарина: – Всегда резонирует то, в чём ты видишь себя. Если ты понимаешь, что в герое видны черты твоего характера (неважно, случайно ли это или нарочно получается). Или даже, возможно, не те черты, которые тебе присущи, а что-то из того, чтобы ты хотел видеть в себе. И такого героя я точно запомню, буду следить за ним на протяжении всего романа.
В этом плане очень показателен для меня роман Ивана Шипнигова «Стрим», там есть такие героини – Настя и Наташа. Когда я читала роман, то поняла в какой-то момент, что во мне есть и Настя и Наташа, более того, история их взаимодействия напомнила мне то, что я сама когда-то проживала – и с точки зрения Насти, и с точки зрения Наташи.
Второе из того, что важно мне, – это книги, в которых герой очень сильно меняется. Вообще, это азбучная такая вещь, о которой говорят даже на курсах, имею в виду, что главный герой должен меняться – это то, чего ждёт читатель (но далеко не во всех книгах этот процесс трогает). Меня лично это очень трогает, в особенности тогда, когда герой меняется сильно, но логично, не искусственно, не притянуто за уши.
– А теперь вопрос Александру: согласны ли вы с тем, что писательство – это манипуляция, причём осознанная, манипуляция эмоциональным состоянием читателя. Возьмём, к примеру, Ханью Янагихару, которую я считаю великим манипулятором с точки зрения текстового выжимания слезы из читателя, – она ведь очень хорошо понимает, что она делает в своих книгах. Но и это умение, на самом деле, берётся не из воздуха, научиться этому может далеко не каждый.
Александр: – Тут прежде всего стоит начать с определения того, что такое манипуляция. Манипуляцию часто путают с убеждением. Когда, например, Дарина пишет то, в чём убеждена, это не манипуляция, хотя эмоциональное воздействие в разы больше.
Манипуляция – это ложь. Прием. Использование эмоциональных штампов. Одноногая собачка, так мы это называем. Несчастное больное животное, или маленький ребёнок, брошенная посреди улицы сирота, которую никто не любит, и вот сейчас её раздавит случайно появившимся трактором. Это манипуляция на уровне ремесла, но не на уровне мастерства. Штамп. Мертвое. А ведь, что мы пишем, оно больше нас. Это произведение искусства, и эти произведения отличаются от ремесленного продукта хотя бы тем, что нас (авторов) не будет, наши книги будут жить.
То есть с одной стороны, Егор, вы правы, а с другой, давайте честно, слово манипуляция – это слово западное. В русском языке оно будет звучать как обман.
– А разве писатель не обманывает читателя на протяжении всей книги?
Александр: Автор верит в то, что пишет. Если он сам не верит, то кто ему поверит? То есть, если в голове возникает история, и она для тебя живая, настоящая, то она не может быть манипулятивной.
– Дарина сказала правильно о том, что книги пишутся в том числе на опыте прочтения других книг. Как говорил Кормак Маккарти – «Все написанные мной книги стоят на фундаменте всех прочитанных и написанных книг». Это надо понимать так: даже в том случае, если в голове нет заранее продуманного плана, романной структуры, все прочитанные ранее книги помогают в написании собственного текста. Тогда возникает два вопроса: мы пишем этот текст для себя или всё же для читателя? Потому что, если учитывать высказывание Дарины, получается, что читатель ищет в тексте героев, похожих на него, но откуда им там взяться, если автор пишет про себя?
Таким образом, может быть, текст – это всё же действительно инструмент манипуляций, возможно, даже не осознаваемых писателем?
Александр: – Вообще, есть такое слово – сопереживание. Без сопереживания нет восприятия текста, но как мы его добиваемся, другой вопрос. К примеру, я очень люблю историю, и я пишу книгу про викингов. С точки зрения нашего сегодняшнего восприятия викинги – аморальные чудовища, они отвратительны для современного культурного человека. Но людям они должны быть интересны, а без сопереживания этот интерес поддерживать невозможно.
И когда я пишу про викингов – это в первую очередь огромный мир, который я открываю перед читателем. Я не хочу, чтобы люди стали викингами, я хочу, чтобы читатели ощутили себя героями этого мира, увидели его вместе со мной, в этом моя творческая задача. И если люди сами хотят себя ассоциировать с ними, в этом нет никакого обмана, манипуляции.
Дарина: – Я согласна с Александром в том, что многое зависит от того, какую задачу перед собой ставит писатель. Мы говорили раньше про эмоциональные педали – это, я считаю, и есть манипуляция. Ты давишь на эти педали, точно зная и понимая, чего хочешь с их помощью добиться.
Если же речь идёт именно о сопереживании, об эмпатии – это уже из разряда веры во всё тобой написанное. Поэтому если вопрос поставлен так: для читателя или для себя я пишу книги, то я отвечу: конечно же, для себя. А для себя я пишу так, как я в это сама бы поверила. И если бы я начала подстраиваться в своих тестах под читателя, то у меня бы ничего не получилось.
– Можно ли тогда назвать писательство эгоистичным занятием? Потому что мы пишем ради того, чтобы войти в какое-то определённое состояние, получить кайф. А читатель при взаимодействии с этим текстом превращается в стороннего наблюдателя.
Александр: – Вообще для писателей привычно делиться самим собой, они такие, какие они есть. Меня как-то обвинили в отсутствии патриотизма только потому, что мои герои в историческом романе не меняют историю. Но я пишу не в жанре альтернативной истории. Я не переделываю настоящее. Я погружаю в прошлое. Кому-то это не нравится. Но писатель – не итальянская сантехника. Он не должен нравиться всем и уж точно на него не надо гадить. .
Что же до эгоизма, то да, нам нравится писать, Но когда мы пишем о чём-то, что имеет, то мы тратим себя, сжигаем частичку своей жизни, так в чём же тут эгоизм?
Дарина: – Как бы ты ни писал, о чём бы ты ни писал, что-то исключительно твоё, личное будет проглядывать в тексте. И ты как писатель, можешь сколько угодно уверять, что тебя нет в тексте, но профессиональному читателю всё равно будет видно это присутствие. Таким образом любой автор, получается, впускает внутрь себя любого читателя, и в каком-то смысле – это максимальный антиэгоизм.
Но лично я бы себя как автора, в то же время назвала всё же эгоистом. Поскольку в текстах я сама устанавливаю правила, сама выстраиваю сюжет, сама корректирую какие-то черты своих героев и персонажей, невзирая на дружеские советы и чьи-то рекомендации. В то же время я эгоист в том плане, что не хочу писать какие-то мейнстримные вещи, хотя, казалось бы, это упрощённый путь в популярные писатели.
Александр: – Я бы сказал, что это личная самозащита, выстраивание своего независимого писательского поля.
Но иногда писателю выходить на диалог с читателями полезно. Скажем, я иногда устраиваю небольшие опросы, спрашивая у читателей, продолжение какой серии они хотят, например. Иногда люди подкидывают интересные идеи, их можно использовать, если они ложатся в общий контекст повествования.
Дарина: – Да, но тут важно это уточнение – если идеи действительно укладываются в задуманный контекст.
Александр: – И это же верно во взаимодействии с редакторами. У меня всегда были хорошие редакторы. Когда они присылают мне файлы со своими замечаниями, то я принимаю где-то, наверное, 30% от указанного ими. Но при этом я правлю сам многое из того, что редактор просто отмечает, как небезупречное. Поэтому у меня огромная благодарность редакторам и гигантская благодарность корректорам, потому что они работают с моими текстами, делают их лучше. Но в любом случае окончательное решение по правкам принимаю я.
Кстати, я не очень согласен с Дариной в том, что герой должен быть похож на автора. Мне кажется, что гораздо полезнее, если герой не похож на автора, это помогает творческому развитию писательского дара. Просто такой совет: отыграйте кого угодно по Станиславскому в тексте, и у вас получится хороший, живой герой, не списанный лично с себя. Нужно уметь отделять от себя героя максимально, это полезный писательский навык.
Дарина: – Я не совсем об этом говорила, имела лишь в виду, что в любом герое, даже максимально непохожем на автора, что-то от автора всё-таки просвечивает. :
– Хотел бы ещё обсудить не менее важную тему – тему творческой импотенции или в более академической трактовке – писательского блока. Некоторые говорят, что у профессионалов не бывает писательского блока, поскольку вдохновение – это инструмент любителя, а профессиональный автор просто садится и пишет. Мне тем не менее кажется, что у вас обоих иногда возникает некое подобие писательского блока, хочется узнать, как вы работаете с такими состояниями?
Дарина: – Не помню, где и от кого, но услышала такую мысль. У писателей бывает два состояния, когда не хочется писать: когда у него лень, усталость, что-то физическое, в общем. А второе состояние – это когда ты просто не можешь писать, когда что бы ты из себя ни вытащил в текст, всё будет плохо. Профессиональные писатели сами внутри себя эти состояния чётко различают.
Как с этим бороться? С первым состоянием – это отдых, переключение на что-то, отвлечение в попытке просто не думать о том, что временно не пишется. Во втором же случае лично мне помогает сопутствующая тексту работа: я составляю какие-то коллажи по тому, что пишу, я слушаю музыку, которая меня вдохновляет… У меня под каждое произведение обычно создан свой особенный плейлист и в процессе работы я просто переслушиваю музыку из плейлиста. Можно просто сесть порисовать или даже заняться домашними делами – в голове что-то всё равно крутится в отношении собственного текста, и постепенно прояснится, сложится в нужном тебе направлении.
Александр: – Я всегда говорил, что писатель-профессионал должен управлять своим вдохновением. Другой вопрос, как это делать? Самый простой путь, если текст не идёт к тебе, нужно начать движение к тексту самому. То есть нужно просто начать работать с тем, что уже написано. К примеру, в процессе написания «Викингов» я смотрю источники, саги, ищу что-то новое по историческим материалам. И это всё может меня подстегнуть на дальнейшую работу с текстом.
Самое простое: писатель должен жить в том мире, в котором он пишет книгу. Ведь так бывает, что действительно застопориваешься на какой-то ключевой сцене или не видишь финала, ты напряжённо думаешь над текстом, размышляешь, ищешь варианты. А потом в какой-то момент расслабляешься, и идея приходит будто сама по себе: ты внезапно видишь во всех деталях ту сцену, которую должен описать.
Вообще же, такого понятия как писательский блок, по сути, нет. Если ты не знаешь, куда пойдёт твой герой дальше, значит, ты просто не знаешь своего героя. Или же твой герой просто недееспособен.
Также важно понимать, почему у тебя случается временный писательский блок. Нередко его причина в исчерпании творческой энергии, а причина исчерпания может быть любой. Ты можешь перебрать с алкоголем, можешь зацепиться на несколько часов в полемику с кем-то в соцсетях, и всё, ты себя растратил, на текст сил уже не остаётся.
– У нас получается довольно продуктивный разговор, мы пытались разобрать, что такое текст, как с ним работать. Но я всё-таки, хочу ещё раз спросить: писатель – он некий сосуд, через который некий текст проходит? Или же он всё-таки управляет этим процессом, меняя направление русла реки?
Александр: – Отвечая на подобный вопрос, я говорю так: автор должен понять, что он не бог для своих героев. Он – коммуникационная система, и эта система должна работать безупречно. Тогда получится настоящий текст.
Дарина: – Мы говорили о писателях-садовниках и писателях-архитекторах. Мне кажется, есть ещё промежуточная стадия — писатель-огородник. И я — тот самый огородник в плане баланса идей. И, мне кажется, что я – то самое огородничество в плане баланса идей, которые я ограничиваю от вмешательства извне. Но в то же время я открыта к внешнему. Я не хочу выстраивать бордюры к тому, о чём я пишу, но и совсем открывать плотину, заливать своим творчеством всё вокруг я тоже не хочу. Поэтому я бережный огородник, соблюдающий некоторые рамки, которые сама же могу двигать в нужном направлении.
– И, наконец, самый последний вопрос – зачем же вы всё-таки пишете?
Дарина: – Я пишу, потому что это мне нравится, это одно из самых больших удовольствий, которое я получаю от жизни. Кроме того, возможно то, о чём я пишу, откликнется кому-то, ему тоже станет от моих текстов хорошо.
Александр: – Я считаю, что писатель не может не писать. Писателю будет очень плохо, если он не сможет писать. Вот я такой человек: если меня лишить писательства, то мне будет очень грустно. А вообще, есть такая мистическая фишка в отношении профессиональных писателей: если писатель по каким-то причинам перестаёт писать, то мироздание само создаст для него такие условия, которые позволят или вынудят его вернуться.
Дарина: – Я не могу сказать, что у меня что-то притупляется со временем. Ты просто начинаешь понимать, чего ожидать после того, как ты войдёшь в режим потока при написании текста. Иногда бывает, что ты пишешь какой-то текст к конкурсу, поспевая к дедлайну, зная, что текст нужно сдать к определённой дате, – в таких случаях ощущения потока обычно не бывает. Реальный, настоящий кайф сейчас возникает только тогда, когда пишешь что-то по собственному желанию. Тогда погружаешься в текст настолько, что реальный мир отступает на второй план, а на первый план выступает мир из твоего текста, он на какое-то время и становится более реальным, настоящим, живым. Это ощущение возникает как бы вне меня, и у меня нет рецепта, как в него войти – просто иногда ты входишь в этот поток и им наслаждаешься. От того, насколько часто я испытываю этот состояние, чистота переживаний и ясность восприятия кайфа не становится меньше, эти ощущения не становятся хуже. Это та восхитительная награда за все часы, проведённые за текстом.
Александр: – То, о чём говорит Дарина, – это классический вариант погружения в текст у одарённого человека. Хотя любители пишут тогда, когда им припрёт. А профессионалы – работают всегда. Они умеют входить в этот поток.
– А в чем разница между графоманом и профессионалом? Это также очень важный вопрос, потому что графоманы тоже фактически пишут всегда.
Александр: – Графоманы не могут адекватно оценить уровень того, что они пишут. А талант позволяет более-менее объективно оценить собственный текст и с ним работать.
И ещё хочется добавить к тому, о чём говорила ранее Дарина. Состояние творческого потока можно сравнить с любовью, ты погружаешься в неё, это чувство тебя полностью захватывает. Но, как и в любви, очень важно не изменять своему писательскому дару. Случается, что у автора есть хороший творческий потенциал, но деньги он предпочитает зарабатывать, например, копирайтингом. И без должного контроля он может потерять свой дар. Это самое важное. Потому техники, которым я учу, направлены как раз на сохранение в себе творческого дара. Часто бывает так: несколько лет автора несёт творческий поток, а потом что-то выключается, и внезапно наступает этакая творческая импотенция. И это для писателя самое ужасное. Потерять дар.
Но работать в других форматах бывает полезно. я сам время от времени участвую в подобных проектах: сейчас у меня в работе сценарий к опере. Но это не халтура. Это другой вид творчества и я так его и буду делать, творчески.
– Что значит в таких случаях – делать творчески?
Александр: – Это то, о чём и говорила Дарина: писать для себя, изнутри. В качестве такого примера я рекомендую повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди». В ней потрясающий пример реализации творческого человека. Творца невозможно загнать в какие-то рамки. Он может ими пользоваться, но только если они помогают творить. Проблема каждого такого человека, пишущего, допустим, тексты для конкурсов, в том, что он старается влезть в рамки, а не использовать их. Тогда работа превращается в рутину, а тексты мертвеют. Ты написал двадцать рассказов на конкурс, а двадцать первый рассказ получается уже неживым.
Дар как бы истончается, но дар – это такая вещь, которая тебе досталась даром, ты её не заработал. Само по себе умение писать, конструировать слова в предложения – это техника, которую ты освоил самостоятельно, она остаётся с тобой навсегда. А дар – он сверху, его тебе дали для того, чтобы ты создавал текст, который будут читать, оказывающий эмоциональное воздействие на читателя. И если ты этого не делаешь, то дар умирает.
– Мне казалось, что уметь оказывать эмоциональное воздействие – это как раз ремесло, то, что относится к технике.
Александр: – Ремесло – это часть мастерства. Вообще, есть несколько уровней мастерства. Первый уровень – самый простой, интеллектуальный. Технический анализ текста: разобрать, где и что у тебя правильно/неправильно, где-то улучшить сюжет, какую-то главу убрать и так далее.
Второй уровень – мотивация. Для писателей самая главная мотивация – вдохновение. Остальные мотивации, второстепенные, это деньги, дедлайн и прочее. Вдохновение главное. Оно - та энергия, которая формируется внутри. Этому можно научиться, , нужно научиться, но это, пожалуй, самая трудная часть профессии. И самая важная.
Дарина: – К вопросу о создании эмоции как составляющей профессионализма… Ты понимаешь, что есть определённые педали, нажимая на которые, ты можешь вызывать у читателей какие-то чувства. Но это же правда ремесленный уровень: ты это сделаешь через текст, вызовешь чувства, эмоции, но ненадолго, читатель скоро об этом забудет. Но бывает и так, что, прочитав какую-то сцену и закрыв книгу, читатель не забывает, настолько это его задевает эмоционально. И вот этот писательский уровень – это уже не ремесленное нажатие педалей, это что-то большее.
– Я хочу, Дарина, сейчас спросить вас не как писателя, а как читателя. Какая прочитанная книга вам запомнилась? И что для вас в других книгах резонирует, почему одна история запоминается, а другая нет?
Дарина: – Всегда резонирует то, в чём ты видишь себя. Если ты понимаешь, что в герое видны черты твоего характера (неважно, случайно ли это или нарочно получается). Или даже, возможно, не те черты, которые тебе присущи, а что-то из того, чтобы ты хотел видеть в себе. И такого героя я точно запомню, буду следить за ним на протяжении всего романа.
В этом плане очень показателен для меня роман Ивана Шипнигова «Стрим», там есть такие героини – Настя и Наташа. Когда я читала роман, то поняла в какой-то момент, что во мне есть и Настя и Наташа, более того, история их взаимодействия напомнила мне то, что я сама когда-то проживала – и с точки зрения Насти, и с точки зрения Наташи.
Второе из того, что важно мне, – это книги, в которых герой очень сильно меняется. Вообще, это азбучная такая вещь, о которой говорят даже на курсах, имею в виду, что главный герой должен меняться – это то, чего ждёт читатель (но далеко не во всех книгах этот процесс трогает). Меня лично это очень трогает, в особенности тогда, когда герой меняется сильно, но логично, не искусственно, не притянуто за уши.
– А теперь вопрос Александру: согласны ли вы с тем, что писательство – это манипуляция, причём осознанная, манипуляция эмоциональным состоянием читателя. Возьмём, к примеру, Ханью Янагихару, которую я считаю великим манипулятором с точки зрения текстового выжимания слезы из читателя, – она ведь очень хорошо понимает, что она делает в своих книгах. Но и это умение, на самом деле, берётся не из воздуха, научиться этому может далеко не каждый.
Александр: – Тут прежде всего стоит начать с определения того, что такое манипуляция. Манипуляцию часто путают с убеждением. Когда, например, Дарина пишет то, в чём убеждена, это не манипуляция, хотя эмоциональное воздействие в разы больше.
Манипуляция – это ложь. Прием. Использование эмоциональных штампов. Одноногая собачка, так мы это называем. Несчастное больное животное, или маленький ребёнок, брошенная посреди улицы сирота, которую никто не любит, и вот сейчас её раздавит случайно появившимся трактором. Это манипуляция на уровне ремесла, но не на уровне мастерства. Штамп. Мертвое. А ведь, что мы пишем, оно больше нас. Это произведение искусства, и эти произведения отличаются от ремесленного продукта хотя бы тем, что нас (авторов) не будет, наши книги будут жить.
То есть с одной стороны, Егор, вы правы, а с другой, давайте честно, слово манипуляция – это слово западное. В русском языке оно будет звучать как обман.
– А разве писатель не обманывает читателя на протяжении всей книги?
Александр: Автор верит в то, что пишет. Если он сам не верит, то кто ему поверит? То есть, если в голове возникает история, и она для тебя живая, настоящая, то она не может быть манипулятивной.
– Дарина сказала правильно о том, что книги пишутся в том числе на опыте прочтения других книг. Как говорил Кормак Маккарти – «Все написанные мной книги стоят на фундаменте всех прочитанных и написанных книг». Это надо понимать так: даже в том случае, если в голове нет заранее продуманного плана, романной структуры, все прочитанные ранее книги помогают в написании собственного текста. Тогда возникает два вопроса: мы пишем этот текст для себя или всё же для читателя? Потому что, если учитывать высказывание Дарины, получается, что читатель ищет в тексте героев, похожих на него, но откуда им там взяться, если автор пишет про себя?
Таким образом, может быть, текст – это всё же действительно инструмент манипуляций, возможно, даже не осознаваемых писателем?
Александр: – Вообще, есть такое слово – сопереживание. Без сопереживания нет восприятия текста, но как мы его добиваемся, другой вопрос. К примеру, я очень люблю историю, и я пишу книгу про викингов. С точки зрения нашего сегодняшнего восприятия викинги – аморальные чудовища, они отвратительны для современного культурного человека. Но людям они должны быть интересны, а без сопереживания этот интерес поддерживать невозможно.
И когда я пишу про викингов – это в первую очередь огромный мир, который я открываю перед читателем. Я не хочу, чтобы люди стали викингами, я хочу, чтобы читатели ощутили себя героями этого мира, увидели его вместе со мной, в этом моя творческая задача. И если люди сами хотят себя ассоциировать с ними, в этом нет никакого обмана, манипуляции.
Дарина: – Я согласна с Александром в том, что многое зависит от того, какую задачу перед собой ставит писатель. Мы говорили раньше про эмоциональные педали – это, я считаю, и есть манипуляция. Ты давишь на эти педали, точно зная и понимая, чего хочешь с их помощью добиться.
Если же речь идёт именно о сопереживании, об эмпатии – это уже из разряда веры во всё тобой написанное. Поэтому если вопрос поставлен так: для читателя или для себя я пишу книги, то я отвечу: конечно же, для себя. А для себя я пишу так, как я в это сама бы поверила. И если бы я начала подстраиваться в своих тестах под читателя, то у меня бы ничего не получилось.
– Можно ли тогда назвать писательство эгоистичным занятием? Потому что мы пишем ради того, чтобы войти в какое-то определённое состояние, получить кайф. А читатель при взаимодействии с этим текстом превращается в стороннего наблюдателя.
Александр: – Вообще для писателей привычно делиться самим собой, они такие, какие они есть. Меня как-то обвинили в отсутствии патриотизма только потому, что мои герои в историческом романе не меняют историю. Но я пишу не в жанре альтернативной истории. Я не переделываю настоящее. Я погружаю в прошлое. Кому-то это не нравится. Но писатель – не итальянская сантехника. Он не должен нравиться всем и уж точно на него не надо гадить. .
Что же до эгоизма, то да, нам нравится писать, Но когда мы пишем о чём-то, что имеет, то мы тратим себя, сжигаем частичку своей жизни, так в чём же тут эгоизм?
Дарина: – Как бы ты ни писал, о чём бы ты ни писал, что-то исключительно твоё, личное будет проглядывать в тексте. И ты как писатель, можешь сколько угодно уверять, что тебя нет в тексте, но профессиональному читателю всё равно будет видно это присутствие. Таким образом любой автор, получается, впускает внутрь себя любого читателя, и в каком-то смысле – это максимальный антиэгоизм.
Но лично я бы себя как автора, в то же время назвала всё же эгоистом. Поскольку в текстах я сама устанавливаю правила, сама выстраиваю сюжет, сама корректирую какие-то черты своих героев и персонажей, невзирая на дружеские советы и чьи-то рекомендации. В то же время я эгоист в том плане, что не хочу писать какие-то мейнстримные вещи, хотя, казалось бы, это упрощённый путь в популярные писатели.
Александр: – Я бы сказал, что это личная самозащита, выстраивание своего независимого писательского поля.
Но иногда писателю выходить на диалог с читателями полезно. Скажем, я иногда устраиваю небольшие опросы, спрашивая у читателей, продолжение какой серии они хотят, например. Иногда люди подкидывают интересные идеи, их можно использовать, если они ложатся в общий контекст повествования.
Дарина: – Да, но тут важно это уточнение – если идеи действительно укладываются в задуманный контекст.
Александр: – И это же верно во взаимодействии с редакторами. У меня всегда были хорошие редакторы. Когда они присылают мне файлы со своими замечаниями, то я принимаю где-то, наверное, 30% от указанного ими. Но при этом я правлю сам многое из того, что редактор просто отмечает, как небезупречное. Поэтому у меня огромная благодарность редакторам и гигантская благодарность корректорам, потому что они работают с моими текстами, делают их лучше. Но в любом случае окончательное решение по правкам принимаю я.
Кстати, я не очень согласен с Дариной в том, что герой должен быть похож на автора. Мне кажется, что гораздо полезнее, если герой не похож на автора, это помогает творческому развитию писательского дара. Просто такой совет: отыграйте кого угодно по Станиславскому в тексте, и у вас получится хороший, живой герой, не списанный лично с себя. Нужно уметь отделять от себя героя максимально, это полезный писательский навык.
Дарина: – Я не совсем об этом говорила, имела лишь в виду, что в любом герое, даже максимально непохожем на автора, что-то от автора всё-таки просвечивает. :
– Хотел бы ещё обсудить не менее важную тему – тему творческой импотенции или в более академической трактовке – писательского блока. Некоторые говорят, что у профессионалов не бывает писательского блока, поскольку вдохновение – это инструмент любителя, а профессиональный автор просто садится и пишет. Мне тем не менее кажется, что у вас обоих иногда возникает некое подобие писательского блока, хочется узнать, как вы работаете с такими состояниями?
Дарина: – Не помню, где и от кого, но услышала такую мысль. У писателей бывает два состояния, когда не хочется писать: когда у него лень, усталость, что-то физическое, в общем. А второе состояние – это когда ты просто не можешь писать, когда что бы ты из себя ни вытащил в текст, всё будет плохо. Профессиональные писатели сами внутри себя эти состояния чётко различают.
Как с этим бороться? С первым состоянием – это отдых, переключение на что-то, отвлечение в попытке просто не думать о том, что временно не пишется. Во втором же случае лично мне помогает сопутствующая тексту работа: я составляю какие-то коллажи по тому, что пишу, я слушаю музыку, которая меня вдохновляет… У меня под каждое произведение обычно создан свой особенный плейлист и в процессе работы я просто переслушиваю музыку из плейлиста. Можно просто сесть порисовать или даже заняться домашними делами – в голове что-то всё равно крутится в отношении собственного текста, и постепенно прояснится, сложится в нужном тебе направлении.
Александр: – Я всегда говорил, что писатель-профессионал должен управлять своим вдохновением. Другой вопрос, как это делать? Самый простой путь, если текст не идёт к тебе, нужно начать движение к тексту самому. То есть нужно просто начать работать с тем, что уже написано. К примеру, в процессе написания «Викингов» я смотрю источники, саги, ищу что-то новое по историческим материалам. И это всё может меня подстегнуть на дальнейшую работу с текстом.
Самое простое: писатель должен жить в том мире, в котором он пишет книгу. Ведь так бывает, что действительно застопориваешься на какой-то ключевой сцене или не видишь финала, ты напряжённо думаешь над текстом, размышляешь, ищешь варианты. А потом в какой-то момент расслабляешься, и идея приходит будто сама по себе: ты внезапно видишь во всех деталях ту сцену, которую должен описать.
Вообще же, такого понятия как писательский блок, по сути, нет. Если ты не знаешь, куда пойдёт твой герой дальше, значит, ты просто не знаешь своего героя. Или же твой герой просто недееспособен.
Также важно понимать, почему у тебя случается временный писательский блок. Нередко его причина в исчерпании творческой энергии, а причина исчерпания может быть любой. Ты можешь перебрать с алкоголем, можешь зацепиться на несколько часов в полемику с кем-то в соцсетях, и всё, ты себя растратил, на текст сил уже не остаётся.
– У нас получается довольно продуктивный разговор, мы пытались разобрать, что такое текст, как с ним работать. Но я всё-таки, хочу ещё раз спросить: писатель – он некий сосуд, через который некий текст проходит? Или же он всё-таки управляет этим процессом, меняя направление русла реки?
Александр: – Отвечая на подобный вопрос, я говорю так: автор должен понять, что он не бог для своих героев. Он – коммуникационная система, и эта система должна работать безупречно. Тогда получится настоящий текст.
Дарина: – Мы говорили о писателях-садовниках и писателях-архитекторах. Мне кажется, есть ещё промежуточная стадия — писатель-огородник. И я — тот самый огородник в плане баланса идей. И, мне кажется, что я – то самое огородничество в плане баланса идей, которые я ограничиваю от вмешательства извне. Но в то же время я открыта к внешнему. Я не хочу выстраивать бордюры к тому, о чём я пишу, но и совсем открывать плотину, заливать своим творчеством всё вокруг я тоже не хочу. Поэтому я бережный огородник, соблюдающий некоторые рамки, которые сама же могу двигать в нужном направлении.
– И, наконец, самый последний вопрос – зачем же вы всё-таки пишете?
Дарина: – Я пишу, потому что это мне нравится, это одно из самых больших удовольствий, которое я получаю от жизни. Кроме того, возможно то, о чём я пишу, откликнется кому-то, ему тоже станет от моих текстов хорошо.
Александр: – Я считаю, что писатель не может не писать. Писателю будет очень плохо, если он не сможет писать. Вот я такой человек: если меня лишить писательства, то мне будет очень грустно. А вообще, есть такая мистическая фишка в отношении профессиональных писателей: если писатель по каким-то причинам перестаёт писать, то мироздание само создаст для него такие условия, которые позволят или вынудят его вернуться.
