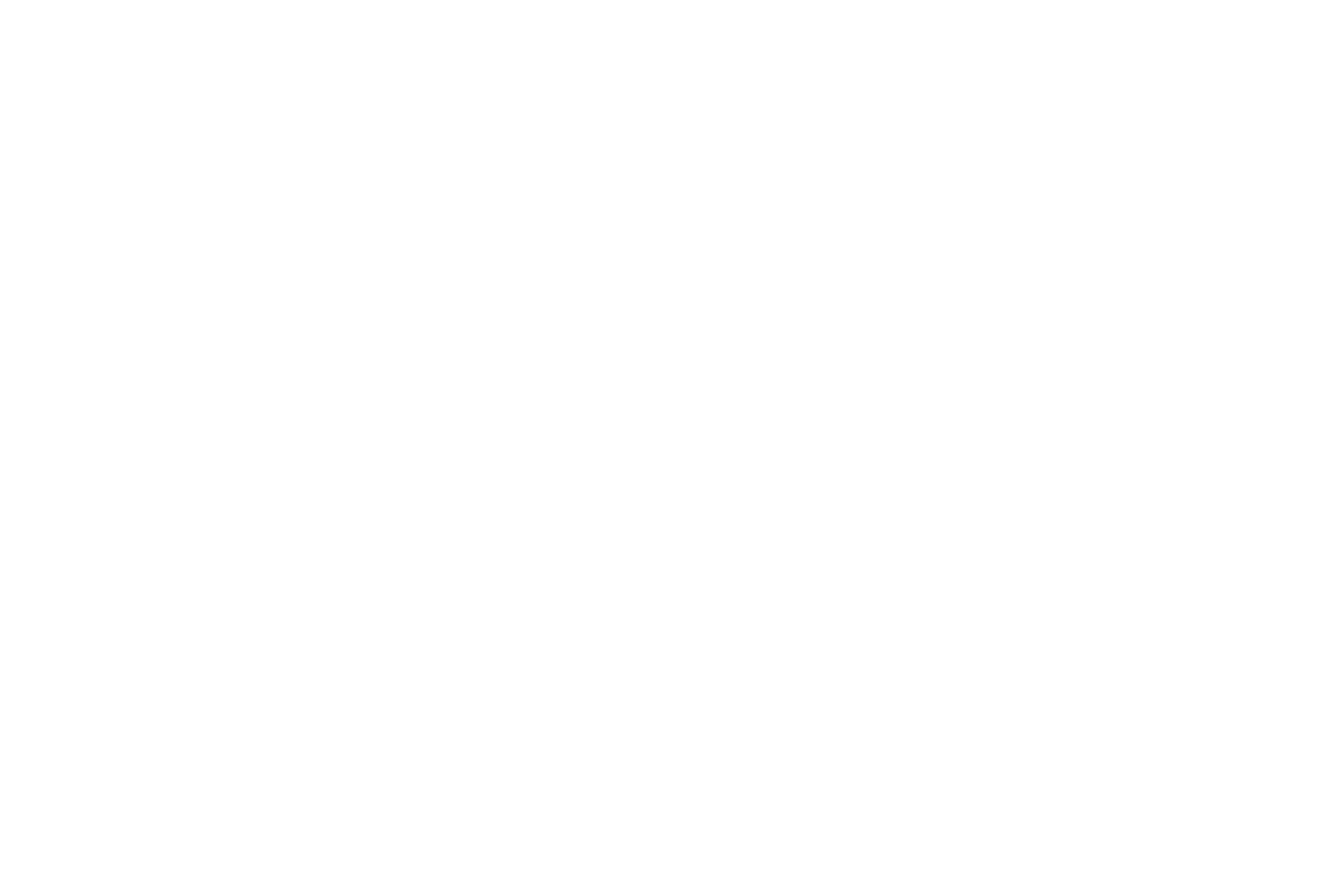
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
«Крайне важный элемент речи — молчание»
Писатель Евгений Водолазкин — о литературном пути, лингвистических помехах и жизни вне времени.
— Вы олицетворение того, что Ибсен называл «жизненным опытом человека»: предельно ясно — как мне кажется — отличаете пережитое от прожитого («только первое может служить предметом творчества») и воплощаете этот опыт в собственных текстах. Вы всегда жили с повышенной чувствительностью к жизни или это приобретенный навык?
Скажем так: часто. Иногда это перемежалось с полной безответственностью. Но с возрастом серьезное отношение преобладает. Не на ярмарку ведь едешь — с ярмарки.
— Думаете ли вы о надтекстовом смысле, когда работаете над произведением или он находит себя (вас) сам?
Литература описывает по преимуществу явления, а уж они вытаскивают за собой какой-то надтекстовый смысл. Или не вытаскивают — это уж как получится. Из этого вовсе не следует, что надо писать только о возвышенном и прекрасном: можно писать о совершенно противоположных вещах, но отрицательным образом описывать возвышенное и прекрасное. Или наоборот: пишешь о прекрасном, а над текстом — какой-то вонючий пар. У Чехова все рассуждают, что нужно работать, нужно в Москву и т.д., а надтекстовый смысл: жизнь проходит бездарно, и она одна. С точностью предугадать этот смысл невозможно — хотя бы потому, что в окончательном виде он формируется в голове читателя. Но задать читателю направление — это писатель может.
— Ритм повествования диктуется историей? Как вы находите звучание и порядок слов?
Я мог бы сказать наоборот: история диктуется ритмом. Но это было бы bon mot. На самом деле они существуют в связке. Возьмите «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича — это идеальное сочетание ритма прозы и ритма истории. Тексты имеют свою мелодию. И если я слышу ее, то я начинаю писать. Часто она приходит мне в голову до сюжета. Например, я знал, что роман, над которым я сейчас работаю, будет написан в 3-м лице. Музыка такого повествования очень отличается от повествования от первого лица.
— Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь была содержательна — какой период вашей жизни дал вам наиболее явные основания, чтобы творить?
Жизнь существует как целое, даже если она похожа на мозаику (об этом я писал в «Лавре»). Так нашу жизнь видит Бог, так ее можем видеть и мы, если сосредоточимся. Что касается меня, то формально я мог бы выделить насыщенные и ненасыщенные периоды жизни, но ценность их для меня одинакова. Количество знаков в тексте мы считаем с пробелами, хотя пробелы не несут вроде бы никакой информации. И речь состоит не только из говорения. Не менее важный ее элемент — молчание.
— Не кажется ли вам в таком случае, что тексты, которые создает искренний писатель, и есть то молчание, о котором вы говорите. А все что вокруг них — фон, лингвистическая поллюция (когда говоришь и пишешь не потому, что должен или есть, что сказать, а потому что не можешь сдержаться), акустические помехи?
Можно сказать и так. Но есть удивительные случаи, когда человек, создающий гениальные тексты, переходит к высокому молчанию. Просто оттого, что его знание выше любых слов. Фома Аквинский, один из самых глубоких умов в мировой истории, в конце жизни перестал писать. И когда его спросили, почему он больше не пишет, он ответил: «Я видел то, перед чем все мои слова как солома». Об одном из моих героев сказано, что его слово — на полпути к молчанию. Я видел таких людей. В их речи не было сора. Это были только необходимые слова. И эти слова были золотыми.
Скажем так: часто. Иногда это перемежалось с полной безответственностью. Но с возрастом серьезное отношение преобладает. Не на ярмарку ведь едешь — с ярмарки.
— Думаете ли вы о надтекстовом смысле, когда работаете над произведением или он находит себя (вас) сам?
Литература описывает по преимуществу явления, а уж они вытаскивают за собой какой-то надтекстовый смысл. Или не вытаскивают — это уж как получится. Из этого вовсе не следует, что надо писать только о возвышенном и прекрасном: можно писать о совершенно противоположных вещах, но отрицательным образом описывать возвышенное и прекрасное. Или наоборот: пишешь о прекрасном, а над текстом — какой-то вонючий пар. У Чехова все рассуждают, что нужно работать, нужно в Москву и т.д., а надтекстовый смысл: жизнь проходит бездарно, и она одна. С точностью предугадать этот смысл невозможно — хотя бы потому, что в окончательном виде он формируется в голове читателя. Но задать читателю направление — это писатель может.
— Ритм повествования диктуется историей? Как вы находите звучание и порядок слов?
Я мог бы сказать наоборот: история диктуется ритмом. Но это было бы bon mot. На самом деле они существуют в связке. Возьмите «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича — это идеальное сочетание ритма прозы и ритма истории. Тексты имеют свою мелодию. И если я слышу ее, то я начинаю писать. Часто она приходит мне в голову до сюжета. Например, я знал, что роман, над которым я сейчас работаю, будет написан в 3-м лице. Музыка такого повествования очень отличается от повествования от первого лица.
— Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь была содержательна — какой период вашей жизни дал вам наиболее явные основания, чтобы творить?
Жизнь существует как целое, даже если она похожа на мозаику (об этом я писал в «Лавре»). Так нашу жизнь видит Бог, так ее можем видеть и мы, если сосредоточимся. Что касается меня, то формально я мог бы выделить насыщенные и ненасыщенные периоды жизни, но ценность их для меня одинакова. Количество знаков в тексте мы считаем с пробелами, хотя пробелы не несут вроде бы никакой информации. И речь состоит не только из говорения. Не менее важный ее элемент — молчание.
— Не кажется ли вам в таком случае, что тексты, которые создает искренний писатель, и есть то молчание, о котором вы говорите. А все что вокруг них — фон, лингвистическая поллюция (когда говоришь и пишешь не потому, что должен или есть, что сказать, а потому что не можешь сдержаться), акустические помехи?
Можно сказать и так. Но есть удивительные случаи, когда человек, создающий гениальные тексты, переходит к высокому молчанию. Просто оттого, что его знание выше любых слов. Фома Аквинский, один из самых глубоких умов в мировой истории, в конце жизни перестал писать. И когда его спросили, почему он больше не пишет, он ответил: «Я видел то, перед чем все мои слова как солома». Об одном из моих героев сказано, что его слово — на полпути к молчанию. Я видел таких людей. В их речи не было сора. Это были только необходимые слова. И эти слова были золотыми.
Начинающие авторы боятся писать просто — и начинают с верхней фа. Они боятся быть банальными — и сразу переходят на крик
— Фраза «можешь не писать — не пиши» приобрела для меня совершенно иное значение после того, как вы сказали, что «молчание — не пустота», а «другой период речи». Как же научиться «молчать»?
Надо стараться проверять слова на их необходимость. С этим мало кто справляется по-настоящему. Так работал, например, Бабель: он правил свои рассказы, вычеркивая лишние слова, — до тех пор, пока не оставалось ни одного, которое можно вычеркнуть. И у него их действительно нет. Некоторые его рассказы имеют более 20-ти вариантов. И, кстати, на заметку молодым писателям: Бабель говорил, что два прилагательных к одному существительному может себе позволить только гений.
— Вы сказали однажды, что слова девальвируются и, пожалуй, это действительно так. Но сама литература при этом — по вашим же словам — набирает «популярность». Как вы можете объяснить такой парадокс, которым «объемлется всякая сложная вещь»?
Так и литература ведь бывает разной. Есть литература, состоящая сплошь из девальвированных слов, — и она тоже популярна.
— Когда вы написали первый рассказ, тетя сказала, что текст малохудожественный. «И с тех пор вопрос художественности обрел для меня особое значение». Как вам удается находить тончайший баланс между художественностью текста и самой историей (делать жанровую литературу языковой)? Я бы сказал, что вы — писатель, идущий по лезвию бритвы: в любой момент возникает риск сорваться (скатиться либо в стилистику и уподобиться, скажем, Набокову, запутавшемуся в конце концов в кружевах собственных слов, или же во благо истории приглушить звучание языка), но вы, почему-то, не срываетесь.
Срываюсь. Есть в моих текстах фрагменты, которые меня очень раздражают, но потом я начинаю считать их пробелами, которые должны же быть между словами. Вместе с тем, пишу я не для того, чтобы срываться, а пытаюсь, говоря по-черномырдински, делать как лучше. Я очень ценю слово, но знаю границу в проявлении этой любви. Потому что, отпущенное на свободу, оно будет страдать нарциссизмом. Так дети, в отношении которых неумеренно проявляется любовь, часто садятся на голову родителям. Тексты, в которых стиль выражен чрезмерно, теряют бытийность, вес — и становятся слишком легкими. Иногда мне хочется «удивлять» стилем, но я беру себя за шиворот и ставлю на тот путь, который считаю правильным.
— Какой же путь вы считаете правильным?
Тот, который ведет к цели. И это тот случай, когда цель не только оправдывает средства, но и их определяет. Если, например, мне нужно описать трагическое событие, то было бы странно делать это кудрявым стилем, правда?
— В «Авиаторе» есть очень важный, на мой взгляд, пассаж: «Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее — может быть, как раз из-за малой своей высоты». Это ведь, если задуматься, метафора всего вашего творчества — амплитуда текстов, которые вы создаете, отличается от всего, что написано другими писателями. У вас, как бы сказал музыкальный продюсер, «есть свой саунд», свое звучание. Каждый ваш текст — «пологая, длинная волна». Текстам присуща тягучая размеренность, неизбежно вызывающая внутренний дискомфорт на определенном этапе чтения. Вы намеренно так играете с чувствами читателя, зная морские особенности колебания воды и законы драматургии, или же так пробивается непроизвольный голос истории?
Знаете, добираясь на монастырском катере с острова Анзер на Большой Соловецкий остров, я однажды чуть не пошел ко дну. Тогда я понял, что мне хватит волны любой длины. И если бы мне было поставлено задание пользоваться только короткими волнами, я думаю, я бы особенно не горевал. Если взять пример из области радио, то на коротких волнах, как известно, представлены самые дальние земли. Вы правы в том, что моя любовь к длинной волне выражается в пристрастии к жанру романа. Только этот жанр более или менее совпадает с жизнью по ритму. Но иногда меня тянет на совсем короткие вещи — такие себе скрин-шоты. Есть случаи, когда с их помощью можно выразить больше, чем целым романом.
Надо стараться проверять слова на их необходимость. С этим мало кто справляется по-настоящему. Так работал, например, Бабель: он правил свои рассказы, вычеркивая лишние слова, — до тех пор, пока не оставалось ни одного, которое можно вычеркнуть. И у него их действительно нет. Некоторые его рассказы имеют более 20-ти вариантов. И, кстати, на заметку молодым писателям: Бабель говорил, что два прилагательных к одному существительному может себе позволить только гений.
— Вы сказали однажды, что слова девальвируются и, пожалуй, это действительно так. Но сама литература при этом — по вашим же словам — набирает «популярность». Как вы можете объяснить такой парадокс, которым «объемлется всякая сложная вещь»?
Так и литература ведь бывает разной. Есть литература, состоящая сплошь из девальвированных слов, — и она тоже популярна.
— Когда вы написали первый рассказ, тетя сказала, что текст малохудожественный. «И с тех пор вопрос художественности обрел для меня особое значение». Как вам удается находить тончайший баланс между художественностью текста и самой историей (делать жанровую литературу языковой)? Я бы сказал, что вы — писатель, идущий по лезвию бритвы: в любой момент возникает риск сорваться (скатиться либо в стилистику и уподобиться, скажем, Набокову, запутавшемуся в конце концов в кружевах собственных слов, или же во благо истории приглушить звучание языка), но вы, почему-то, не срываетесь.
Срываюсь. Есть в моих текстах фрагменты, которые меня очень раздражают, но потом я начинаю считать их пробелами, которые должны же быть между словами. Вместе с тем, пишу я не для того, чтобы срываться, а пытаюсь, говоря по-черномырдински, делать как лучше. Я очень ценю слово, но знаю границу в проявлении этой любви. Потому что, отпущенное на свободу, оно будет страдать нарциссизмом. Так дети, в отношении которых неумеренно проявляется любовь, часто садятся на голову родителям. Тексты, в которых стиль выражен чрезмерно, теряют бытийность, вес — и становятся слишком легкими. Иногда мне хочется «удивлять» стилем, но я беру себя за шиворот и ставлю на тот путь, который считаю правильным.
— Какой же путь вы считаете правильным?
Тот, который ведет к цели. И это тот случай, когда цель не только оправдывает средства, но и их определяет. Если, например, мне нужно описать трагическое событие, то было бы странно делать это кудрявым стилем, правда?
— В «Авиаторе» есть очень важный, на мой взгляд, пассаж: «Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее — может быть, как раз из-за малой своей высоты». Это ведь, если задуматься, метафора всего вашего творчества — амплитуда текстов, которые вы создаете, отличается от всего, что написано другими писателями. У вас, как бы сказал музыкальный продюсер, «есть свой саунд», свое звучание. Каждый ваш текст — «пологая, длинная волна». Текстам присуща тягучая размеренность, неизбежно вызывающая внутренний дискомфорт на определенном этапе чтения. Вы намеренно так играете с чувствами читателя, зная морские особенности колебания воды и законы драматургии, или же так пробивается непроизвольный голос истории?
Знаете, добираясь на монастырском катере с острова Анзер на Большой Соловецкий остров, я однажды чуть не пошел ко дну. Тогда я понял, что мне хватит волны любой длины. И если бы мне было поставлено задание пользоваться только короткими волнами, я думаю, я бы особенно не горевал. Если взять пример из области радио, то на коротких волнах, как известно, представлены самые дальние земли. Вы правы в том, что моя любовь к длинной волне выражается в пристрастии к жанру романа. Только этот жанр более или менее совпадает с жизнью по ритму. Но иногда меня тянет на совсем короткие вещи — такие себе скрин-шоты. Есть случаи, когда с их помощью можно выразить больше, чем целым романом.
Четверг
«Спустя примерно час после того, как мы отчалили из Кеми, разыгрался шторм. Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее — может быть, как раз из-за малой своей высоты. Самых слабых с первой же качкой начало рвать. Люди были набиты в трюм, как сельди в бочку, они блевали на себя и на окружающих. От этого плохо становилось даже тем, кто обычно не боялся качки.
Но худшее было впереди. Когда корабль стал переваливаться с борта на борт, раздались душераздирающие крики. Это гибли те, кто стоял у бортов. Тысячепудовая человеческая масса прижимала их к ржавому железу баржи и расплющивала в лепешку. Когда позже их изуродованные тела тащили по пристани, за ними тянулся след кровавого поноса.
Меня тоже рвало — просто выворачивало наружу. Страх утонуть, охвативший было меня в первые минуты качки, быстро прошел. Возникшее безразличие рисовало мне картину прозрачных холодных глубин, где меня больше не рвет и не слышно криков умирающих. Где нет конвоя. В те страшные часы я почему-то не думал о том, что даже на дне никому из нас будет не выбраться из этого мрака и смрада, что даже на конечной глубине ржавый люк "Клары Цеткин" останется задраенным, и нам предстоит вечно плавать в собственном кале и блевотине.
В Бухте Благополучия на пристань нас выгоняли пинками. Тех, кто был не в состоянии двигаться, велено было тащить другим заключенным. И те, кто шел, и те, кто не мог ходить, чувствовали примерно одно и то же. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее чрева "Клары Цеткин" никто из нас в своей жизни не видел. Тогда нам казалось, что и не увидим».
Евгений Водолазкин. «Авиатор»
Но худшее было впереди. Когда корабль стал переваливаться с борта на борт, раздались душераздирающие крики. Это гибли те, кто стоял у бортов. Тысячепудовая человеческая масса прижимала их к ржавому железу баржи и расплющивала в лепешку. Когда позже их изуродованные тела тащили по пристани, за ними тянулся след кровавого поноса.
Меня тоже рвало — просто выворачивало наружу. Страх утонуть, охвативший было меня в первые минуты качки, быстро прошел. Возникшее безразличие рисовало мне картину прозрачных холодных глубин, где меня больше не рвет и не слышно криков умирающих. Где нет конвоя. В те страшные часы я почему-то не думал о том, что даже на дне никому из нас будет не выбраться из этого мрака и смрада, что даже на конечной глубине ржавый люк "Клары Цеткин" останется задраенным, и нам предстоит вечно плавать в собственном кале и блевотине.
В Бухте Благополучия на пристань нас выгоняли пинками. Тех, кто был не в состоянии двигаться, велено было тащить другим заключенным. И те, кто шел, и те, кто не мог ходить, чувствовали примерно одно и то же. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее чрева "Клары Цеткин" никто из нас в своей жизни не видел. Тогда нам казалось, что и не увидим».
Евгений Водолазкин. «Авиатор»
— Абсолютный мастер «скрин-шотов» — Антон Чехов. У него бытийность переведена в разряд того, что вы называете «переживание персональной истории, через которую раскрывается общая история», и надтекстовый смысл слышен в каждой истории, и стиль узнаваем. Есть ли, на ваш взгляд, такие мастера в современном писательском мире?
Для меня это прежде всего недавно умерший Фазиль Искандер. Современным Чеховым называют канадскую писательницу Элис Мунро. Но Чехов, по-моему, лучше.
— Как вам кажется, вы родились писателем — и заложенный внутри часовой механизм просто сработал в нужное время?
Я родился ответственным человеком. И тот сегмент, в который я поставлен, я должен тщательно осмыслить. Пользуюсь подручными средствами. В России это прежде всего литература. А родись я где-нибудь на островах Тихого океана, где, предположим, нет литературы, я бы с той же тщательностью вырезал свистульки, увеличивал количество колец в носу — я не знаю, чем они там еще занимаются.
— Вы вообще верите в судьбу, предопределенность чего бы то ни было?
Всякая сложная вещь объемлется парадоксом. Есть две стороны медали: с одной стороны — моя свободная воля, которая выражается в постоянном выборе, с другой — это свободная воля Бога, которой уже предусмотрена моя свободная воля.
— То есть, с вашей точки зрения, верным будет утверждение, которое мне, надо сказать, очень близко: у нас есть лишь иллюзия выбора, и в действительности мы не управляем автомобилем, за рулем которого мы сидим?
Нет, это не иллюзия. Человеческая свобода как дар абсолютного Бога тоже абсолютна. Это как две прямые, бегущие параллельно. Просто одна всегда находится впереди.
— Водолазкин в долитературный период и Водолазкин в текущем моменте — несомненно разные люди. С какой стороны вы смотрите на огонь сейчас?
Если отвечать посредством текста, который Вы цитируете, то — времени нет, из этого следует, что я смотрю на огонь с обеих сторон. Если бы время существовало, я бы добавил: одновременно.
Для меня это прежде всего недавно умерший Фазиль Искандер. Современным Чеховым называют канадскую писательницу Элис Мунро. Но Чехов, по-моему, лучше.
— Как вам кажется, вы родились писателем — и заложенный внутри часовой механизм просто сработал в нужное время?
Я родился ответственным человеком. И тот сегмент, в который я поставлен, я должен тщательно осмыслить. Пользуюсь подручными средствами. В России это прежде всего литература. А родись я где-нибудь на островах Тихого океана, где, предположим, нет литературы, я бы с той же тщательностью вырезал свистульки, увеличивал количество колец в носу — я не знаю, чем они там еще занимаются.
— Вы вообще верите в судьбу, предопределенность чего бы то ни было?
Всякая сложная вещь объемлется парадоксом. Есть две стороны медали: с одной стороны — моя свободная воля, которая выражается в постоянном выборе, с другой — это свободная воля Бога, которой уже предусмотрена моя свободная воля.
— То есть, с вашей точки зрения, верным будет утверждение, которое мне, надо сказать, очень близко: у нас есть лишь иллюзия выбора, и в действительности мы не управляем автомобилем, за рулем которого мы сидим?
Нет, это не иллюзия. Человеческая свобода как дар абсолютного Бога тоже абсолютна. Это как две прямые, бегущие параллельно. Просто одна всегда находится впереди.
— Водолазкин в долитературный период и Водолазкин в текущем моменте — несомненно разные люди. С какой стороны вы смотрите на огонь сейчас?
Если отвечать посредством текста, который Вы цитируете, то — времени нет, из этого следует, что я смотрю на огонь с обеих сторон. Если бы время существовало, я бы добавил: одновременно.
***
«Посматривая с сомнением на волка, Арсений сообщал Христофору:
Он сидит неестественно, я бы сказал, напряженно. По-моему, он просто боится за свою шкуру.
Мальчик был прав. Вылетавшие из печи снопы искр доставляли волку определенное беспокойство. Лишь когда огонь приступал к ровному завершающему горению, волк растягивался на полу и по-собачьи клал голову на лапы.
Мы в ответе за тех, кого приручили, говорил, гладя волка, Христофор.
Глядя в печь, Арсений видел там порой свое лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затылке. Лицо было покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его собственное отражение. Только много лет спустя. И в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил.
Вошедший топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что Врач всея Руси сейчас занят. Наблюдает пламя.
Впусти ее, Мелетий, говорит старец, не оборачиваясь. Чего ты хочешь, жено?
Жити хощу, Врачу. Помози ми.
А умереть не хочешь?
Есть которые хотят умереть, поясняет Мелетий.
У меня сын. Пожалей его.
Вот такой? Старец показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика».
Евгений Водолазкин. «Лавр»
Он сидит неестественно, я бы сказал, напряженно. По-моему, он просто боится за свою шкуру.
Мальчик был прав. Вылетавшие из печи снопы искр доставляли волку определенное беспокойство. Лишь когда огонь приступал к ровному завершающему горению, волк растягивался на полу и по-собачьи клал голову на лапы.
Мы в ответе за тех, кого приручили, говорил, гладя волка, Христофор.
Глядя в печь, Арсений видел там порой свое лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затылке. Лицо было покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его собственное отражение. Только много лет спустя. И в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил.
Вошедший топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что Врач всея Руси сейчас занят. Наблюдает пламя.
Впусти ее, Мелетий, говорит старец, не оборачиваясь. Чего ты хочешь, жено?
Жити хощу, Врачу. Помози ми.
А умереть не хочешь?
Есть которые хотят умереть, поясняет Мелетий.
У меня сын. Пожалей его.
Вот такой? Старец показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика».
Евгений Водолазкин. «Лавр»
— Я бы сказал, что Лавр — метафора не только самой жизни, но и писательского пути. Вы чувствуете одиночество?
Когда человек чувствует одиночество — это первый шаг к его преодолению. Круг моего общения — почти исключительно моя семья, и у меня нет желания что-либо здесь менять.
— Стейнбек писал: «Мы одинокие животные. Всю жизнь мы тратим, чтобы стать менее одинокими. Один из наших древних способов заключается в том, чтобы рассказать историю, умоляя, чтобы слушатель сказал и почувствовал следующее: Да, так и есть. По крайней мере, я так чувствую. Ты не так одинок, как думал». И привел я эту цитату потому, что круг вашего общения — это ведь еще и читатели, с которыми вы говорите посредством своих текстов. Возникает ли у вас желание получать обратную связь о своем труде?
Да, отзывы для меня важны — положительные и не очень — при одном непременном условии: они не должны быть злобными. То, что лишено доброты, ложно в самой своей основе. Некоторые пишут отзывы, чтобы излить накопившуюся агрессию. Им всё равно, о ком или о чем писать, — лишь бы ударить побольнее. Есть категория лиц, пишущих почти исключительно отрицательные отзывы или рецензии. Им кажется, что они показывают свою крутизну, а на самом деле — беспомощность, нередко — бездарность.
— Цитата из «Лавра»: «Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь, вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, и обливаетесь слезами». Это ведь вы о писателях высказались, признайтесь.
Да, в том смысле, что так может казаться. На деле же писатель ведет совсем другой диалог — примерно так же, как ведет его Лавр. Писатель любит своего читателя и работает, да, для него. Но при этом он выстраивает свои отношения с Богом (совестью), и эти отношения имеют гораздо большее значение.
— Бальзак писал: задача искусства «не в том, чтобы копировать природу, но, чтобы ее выражать»: «нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ». За счет каких инструментов вам удается выражать, не копируя?
Копировать то, что уже существует, действительно, нет смысла. Для себя задачу литературы я формулирую так: выражать невыраженное. А, может быть, даже — невыразимое. То, что существует, но пока не названо. То, к чему чаще всего так просто не подберешься, — нет таких слов. Фронтальная атака невозможна. И тогда надо поступать как-то неэвклидово, использовать те инструменты, которые нам доступны. Лотман, например, говорил о «пространственном выражении непространственных явлений». В качестве идеального воплощения такого подхода я вижу «Старосветских помещиков» Гоголя, в которых не описывается, кажется, ничего кроме наливок, пампушек и бессмысленных бесед. На самом же деле это повествование об ужасе смерти. Ничего более пронзительного я не знаю.
— Писатель Стефан Зорьян сказал: «художник слова только тогда станет мастером, когда до самых глубин познает жизнь... А для этого необходимы твердые убеждения, ставшие плотью и кровью писателя...». Расскажите, пожалуйста, о своих убеждениях, ставших вашей плотью. Например, тех, которые свойственны вам сейчас, ибо путь писателя — это и меняющиеся убеждения тоже.
Это большая тема, и об этом не скажешь в кратком ответе. Назову лишь одну важную линию, по которой проходила моя эволюция: из человека социального, верящего в общественный прогресс и пользу общего дела, я превратился в того, чьи взгляды можно определить как христианский персонализм. Это не значит, что я равнодушен к проблемам общества. Речь идет лишь о том, что обществу нужно помогать лично, не вступая ни в какие альянсы и, уж тем более, в партии, политические движения и т.п. Это только кажется, что такая работа не имеет общественного значения. Личный прогресс (а прогресс может быть только личным) помогает обществу гораздо больше коллективных мантр. Так происходит хотя бы потому, что в общественном движении ты почти ничего не определяешь, а в личном — всё.
— «Авиатор» — книга о персональном сознании, где общее блекнет перед частным (при этом становясь продолжением частного, фоном, декорациями). Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать писатель, чтобы менять реальность — сначала вокруг себя, а потом и общую реальность, которая неизбежно поменяется, следуя вашей теории.
Я бы не сказал, что писатель должен непременно менять реальность. Иногда напротив — он должен ее сохранять. В любом случае, он должен иметь ясное сознание и чистую совесть. Это что-то вроде стрелки компаса, которая при любых поворотах указывает нужное направление.
— Литература без жизни в полях ограниченна. Такую литературу Флобер называл «органическим сифилисом». Чехов резко критиковал писателей, живущих «замкнуто в своей... эгоистической скорлупе». В дневнике Л. Н. Толстого 1856 года читаем: «Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни». Насколько вам нравится выбираться во внешний мир? Та же серия рассказов «Дом и остров, или Инструмент языка» — яркая иллюстрация, что вы участие в «общественной жизни» принимаете. Но доставляют ли эти вылазки удовольствие?
Специально я никуда не выбираюсь. Я реагирую только тогда, когда внешний мир выбирается ко мне. В этих случаях я считаю возможным и нужным высказать свою точку зрения. Но именно — свою, а не коллективную.
— Вы зашли в литературу с черного входа исследовательской работы. Не раз говорили о своевременности этого шага и помощи, которую оказала древнерусская литература в творчестве. Как эти два мира сосуществуют в вас сейчас?
Я по-прежнему работаю с древнерусскими текстами. Их энергетическое поле гораздо мощнее поля любого современного текста. Они наполняют меня силой. Сейчас, правда, в моей жизни возникло столько дополнительных дел, что на древнерусской литературе сосредоточиться всё сложнее.
— Чехов писал Суворину: «Для тех, кого томит научный метод, кому бог дал редкий талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход — философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine qua non (то, без чего невозможно) всякого произведения, претендующего на бессмертие». Благодаря работе прежних лет вы уже нашли вот это самое «общее» — и на основе его выстраиваете тексты, или же написанные вами тексты и есть сам поиск «общего»?
Как человек, в течение многих лет практиковавший рациональный тип познания мира, я могу сказать, что такое познание имеет свои границы. Я могу взять гениальное стихотворение — и всё рассказать о его источниках, размере, структуре и задачах. Но написать такое же я не могу. А это — четкое свидетельство того, что главного в нем я не понимаю. Потому что гениальность — это тогда, когда начинается вот это «я не понимаю». Гениальные вещи — это всегда тайна, и с этим надо смириться. Только тайна способна удивлять. Ведь если бы к ней можно было подобраться по лесенке рационального знания, то достаточно было бы почитать «Введение в литературоведение», отправиться в Ясную Поляну — и написать что-нибудь о войне и мире.
— Золя однажды сказал: «То, что вы называете повторениями, есть во всех моих книгах». Байрон указывал на внутреннюю связь поэм «Лара» и «Корсар». Считается, что у многих писателей есть некая одна тема, которая их «беспокоит». Есть ли какая-то общая управляющая идея, объединяющая ваши тексты?
Смысл жизни. Тема не то чтобы очень узкая, но, если коротко, то именно она. Я пытаюсь к ней подступиться с разных точек — время, история, память, вера, любовь — их много.
Когда человек чувствует одиночество — это первый шаг к его преодолению. Круг моего общения — почти исключительно моя семья, и у меня нет желания что-либо здесь менять.
— Стейнбек писал: «Мы одинокие животные. Всю жизнь мы тратим, чтобы стать менее одинокими. Один из наших древних способов заключается в том, чтобы рассказать историю, умоляя, чтобы слушатель сказал и почувствовал следующее: Да, так и есть. По крайней мере, я так чувствую. Ты не так одинок, как думал». И привел я эту цитату потому, что круг вашего общения — это ведь еще и читатели, с которыми вы говорите посредством своих текстов. Возникает ли у вас желание получать обратную связь о своем труде?
Да, отзывы для меня важны — положительные и не очень — при одном непременном условии: они не должны быть злобными. То, что лишено доброты, ложно в самой своей основе. Некоторые пишут отзывы, чтобы излить накопившуюся агрессию. Им всё равно, о ком или о чем писать, — лишь бы ударить побольнее. Есть категория лиц, пишущих почти исключительно отрицательные отзывы или рецензии. Им кажется, что они показывают свою крутизну, а на самом деле — беспомощность, нередко — бездарность.
— Цитата из «Лавра»: «Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь, вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, и обливаетесь слезами». Это ведь вы о писателях высказались, признайтесь.
Да, в том смысле, что так может казаться. На деле же писатель ведет совсем другой диалог — примерно так же, как ведет его Лавр. Писатель любит своего читателя и работает, да, для него. Но при этом он выстраивает свои отношения с Богом (совестью), и эти отношения имеют гораздо большее значение.
— Бальзак писал: задача искусства «не в том, чтобы копировать природу, но, чтобы ее выражать»: «нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ». За счет каких инструментов вам удается выражать, не копируя?
Копировать то, что уже существует, действительно, нет смысла. Для себя задачу литературы я формулирую так: выражать невыраженное. А, может быть, даже — невыразимое. То, что существует, но пока не названо. То, к чему чаще всего так просто не подберешься, — нет таких слов. Фронтальная атака невозможна. И тогда надо поступать как-то неэвклидово, использовать те инструменты, которые нам доступны. Лотман, например, говорил о «пространственном выражении непространственных явлений». В качестве идеального воплощения такого подхода я вижу «Старосветских помещиков» Гоголя, в которых не описывается, кажется, ничего кроме наливок, пампушек и бессмысленных бесед. На самом же деле это повествование об ужасе смерти. Ничего более пронзительного я не знаю.
— Писатель Стефан Зорьян сказал: «художник слова только тогда станет мастером, когда до самых глубин познает жизнь... А для этого необходимы твердые убеждения, ставшие плотью и кровью писателя...». Расскажите, пожалуйста, о своих убеждениях, ставших вашей плотью. Например, тех, которые свойственны вам сейчас, ибо путь писателя — это и меняющиеся убеждения тоже.
Это большая тема, и об этом не скажешь в кратком ответе. Назову лишь одну важную линию, по которой проходила моя эволюция: из человека социального, верящего в общественный прогресс и пользу общего дела, я превратился в того, чьи взгляды можно определить как христианский персонализм. Это не значит, что я равнодушен к проблемам общества. Речь идет лишь о том, что обществу нужно помогать лично, не вступая ни в какие альянсы и, уж тем более, в партии, политические движения и т.п. Это только кажется, что такая работа не имеет общественного значения. Личный прогресс (а прогресс может быть только личным) помогает обществу гораздо больше коллективных мантр. Так происходит хотя бы потому, что в общественном движении ты почти ничего не определяешь, а в личном — всё.
— «Авиатор» — книга о персональном сознании, где общее блекнет перед частным (при этом становясь продолжением частного, фоном, декорациями). Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать писатель, чтобы менять реальность — сначала вокруг себя, а потом и общую реальность, которая неизбежно поменяется, следуя вашей теории.
Я бы не сказал, что писатель должен непременно менять реальность. Иногда напротив — он должен ее сохранять. В любом случае, он должен иметь ясное сознание и чистую совесть. Это что-то вроде стрелки компаса, которая при любых поворотах указывает нужное направление.
— Литература без жизни в полях ограниченна. Такую литературу Флобер называл «органическим сифилисом». Чехов резко критиковал писателей, живущих «замкнуто в своей... эгоистической скорлупе». В дневнике Л. Н. Толстого 1856 года читаем: «Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни». Насколько вам нравится выбираться во внешний мир? Та же серия рассказов «Дом и остров, или Инструмент языка» — яркая иллюстрация, что вы участие в «общественной жизни» принимаете. Но доставляют ли эти вылазки удовольствие?
Специально я никуда не выбираюсь. Я реагирую только тогда, когда внешний мир выбирается ко мне. В этих случаях я считаю возможным и нужным высказать свою точку зрения. Но именно — свою, а не коллективную.
— Вы зашли в литературу с черного входа исследовательской работы. Не раз говорили о своевременности этого шага и помощи, которую оказала древнерусская литература в творчестве. Как эти два мира сосуществуют в вас сейчас?
Я по-прежнему работаю с древнерусскими текстами. Их энергетическое поле гораздо мощнее поля любого современного текста. Они наполняют меня силой. Сейчас, правда, в моей жизни возникло столько дополнительных дел, что на древнерусской литературе сосредоточиться всё сложнее.
— Чехов писал Суворину: «Для тех, кого томит научный метод, кому бог дал редкий талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход — философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine qua non (то, без чего невозможно) всякого произведения, претендующего на бессмертие». Благодаря работе прежних лет вы уже нашли вот это самое «общее» — и на основе его выстраиваете тексты, или же написанные вами тексты и есть сам поиск «общего»?
Как человек, в течение многих лет практиковавший рациональный тип познания мира, я могу сказать, что такое познание имеет свои границы. Я могу взять гениальное стихотворение — и всё рассказать о его источниках, размере, структуре и задачах. Но написать такое же я не могу. А это — четкое свидетельство того, что главного в нем я не понимаю. Потому что гениальность — это тогда, когда начинается вот это «я не понимаю». Гениальные вещи — это всегда тайна, и с этим надо смириться. Только тайна способна удивлять. Ведь если бы к ней можно было подобраться по лесенке рационального знания, то достаточно было бы почитать «Введение в литературоведение», отправиться в Ясную Поляну — и написать что-нибудь о войне и мире.
— Золя однажды сказал: «То, что вы называете повторениями, есть во всех моих книгах». Байрон указывал на внутреннюю связь поэм «Лара» и «Корсар». Считается, что у многих писателей есть некая одна тема, которая их «беспокоит». Есть ли какая-то общая управляющая идея, объединяющая ваши тексты?
Смысл жизни. Тема не то чтобы очень узкая, но, если коротко, то именно она. Я пытаюсь к ней подступиться с разных точек — время, история, память, вера, любовь — их много.
— Верным ли будет утверждение, что каждый ваш роман — авторское преломление собранной на жизненном пути фактологии, пропущенное сквозь жизненный опыт?
Конечно, откуда же мне еще брать сведения, как не из виденного и пережитого? Но я не оставляю предметы на прежних местах: я их двигаю, чтобы понять — а что было бы, если бы они стояли иначе. Поэтому нет ничего более наивного, чем делать выводы биографического характера, основываясь на литературных произведениях. Да, у героя в руках нож, и у автора в руках нож. Но герой дерется с уличной бандой, а автор чистит картошку.
— «Факт, — писал в одном из писем Федин, — в большинстве случаев — лишь точка приложения силы, которую мы зовем фантазией». Что для вас первично: вымысел или факт?
Факты подбираются под определенный замысел. Допустим, герою захотелось выпить виски. Я начинаю вспоминать все сорта виски, какие пробовал, — и даю моему герою. Но если бы он не захотел выпить, я бы об этом напитке не вспомнил. «Историю» я люблю придумывать сам, поэтому я не пишу биографических романов и не написал ни одной книги в ЖЗЛ. Не рассматриваю это как большое свое достоинство. Я очень ценю писателей, которые способны влезть в шкуру исторического лица — и сантиметр за сантиметром исследовать логику его поведения. Это великий дар и великое терпение, которых я, видимо, лишен. Как Вы, возможно, заметили, в моих романах почти нет исторических лиц. Когда я пытаюсь о них писать, мне чудится окрик конвоя: шаг влево, шаг вправо... Для того чтобы хорошо описать историческое лицо, надо быть великим актером и вживаться в роль. Я по типу скорее режиссер — и требую от героев действовать так, как я скажу.
— Как вы взаимодействуете с фантазией? Она капризна или поддалась укрощению во благо творчества и доступна по первому зову?
Я стараюсь продумывать своих героев до тех пор, пока они сами не будут подсказывать мне свои шаги. Это возникает не в начале романа, а появляется погодя. Но когда герои начинают двигаться своим ходом — это самый счастливый авторский миг.
— Хемингуэй пытался реализовать в своем творчестве то, чего не делали до него другие. Ставите ли вы такую задачу перед собой?
Это никогда не было моей целью. Когда, например, я работал над «Лавром», я только и делал что писал, как писали другие — веке в XV-м. Есть произведения, в которых можно «оттопыриться» от всей души, а есть такие, в которых надо подчеркнуть свою традиционность. Всё зависит от задачи.
— Если изучить биографии писателей, то выяснится, что в процессе развития кризиса писатель может даже на время бросить свою профессию. Когда вы бросали в последний раз и бросали ли? Бывают ли у вас кризисы той силы, что заставляет усомниться в собственных силах? Как вы боретесь с кризисами и отчаянием?
Я слишком поздно начал, чтобы отвлекаться на кризисы. Это, как правило, удел писателей, которые рано стартовали. Как говорится в песне Вероники Долиной о барабанщике, «я долго жил и ни во что не бил». Читал древнерусские тексты — и молчал. А теперь мне есть, о чем барабанить. Вы правы в том, что чаще всего эта способность в какой-то момент у писателей исчезает. Самые честные из них говорят: приехали, я больше не буду писать. А многие пишут. И за всеми — своя правда, потому что очень трудно признаться себе в творческой импотенции. Допускаю, что это произойдет и со мной, но, честное слово, не знаю, каковы будут в этом случае мои шаги.
— Хемингуэй писал Фицджеральду (28 мая 1934 г., Ки-Уэст): «Бога ради, пиши и не думай о том, что скажут, или о том, будет ли твоя вещь шедевром. У меня на девяносто одну страницу дерьма получается одна страница шедевра». А как у вас? Много ли приходится переписывать?
Я думаю о том, что скажут. Но если то, что я пишу, кажется мне правильным, оставляю всё как есть. Кое-что из прежде написанного мне не нравится, но я никогда не переписываю — потому что не знаю, как. Нет ничего хуже шахматистов, которые имеют привычку «перехаживать». Тогда игра теряет всякий интерес. Да и ходы их оказываются всё равно плохими.
— Стейнбек, говоря о миссии писателя, привел такие слова: «Помимо обязанности писать увлекательно, писатель несет перед читателем ответственность: воодушевлять, вдохновлять, расширять горизонты (кругозора)». А какой вы видите свою миссию в области творчества? И думаете ли о ней вообще?
Я избегаю таких категорий, как миссия. Если взять на регистр ниже — задача, — то ее я вижу в том, чтобы предоставить читателю материал для размышления. Я, условно говоря, ставлю вопрос, на который могут быть разные ответы, и мне не важно, каким именно будет ответ. Главное — чтобы он был.
— Как вы пишете? С листа, следуя за мыслью? Или проведя подготовительные работы и управляя мыслью?
Я обычно имею план, но не очень детальный — так, чтобы у героев была возможность проявить себя. К каждому роману готовлюсь тщательно — просто, чтобы знать материал. Но это касается декораций и костюмов. Актеры же должны обладать достаточной степенью свободы.
— Какой совет вы могли бы дать людям, создающим художественные тексты?
Вероятно, Вы имеете в виду начинающих писателей. Потому что другим советы не нужны. Я бы посоветовал писать просто, без понтов. Начинающие авторы боятся писать просто — и начинают с верхней фа. Они боятся быть банальными — и сразу переходят на крик. Рано или поздно они понимают, что никого здесь не перекричишь, и начинают петь спокойно. И вот тогда, научившись нормальному пению, они время от времени пробуют высокие ноты. Но это уже те ноты, которые родились изнутри, а не от чтения Набокова, Платонова или Саши Соколова.
— Есть ли иной способ побороть неуверенность, а главное — писательскую беспомощность, кроме того, что продолжать писать?
Продолжать писать — это, наверное, лучший способ. Если автор, конечно, не капитан Лебядкин. На самом деле Вы затрагиваете большую проблему. В начале пути очень легко сломаться от безверия в свои силы. И здесь очень важно чье-то доброе слово. Доброе, но одновременно — объективное. И, наоборот, слово безжалостное может сделать калекой. Кажется, Зинаида Гиппиус, прочитав первый сборник стихов Набокова, сказала, что из него никогда не получится хороший литератор. Представляете, если бы на месте Набокова был менее уверенный в себе человек? Мы могли бы лишиться одного из лучших стилистов мировой литературы.
— Какое отношение у вас — у хранителя языка — вызывает его пугающая эволюция? Я говорю, в частности, о неологизмах, мало мне понятных, но составляющих теперь значительную часть молодежного эпоса (как устного, так и письменного). Вот безобидный, но наглядный пример: «родители вздыхали, но платили за неоднократно зафейленный мной универ» (речь главного редактора одного крупного весьма СМИ об образовании, которое failed).
Когда-то такие вещи меня сильно раздражали. Впоследствии под влиянием Максима Кронгауза — а также, видимо, в силу возраста — я стал относиться к этому терпимее. Даже в дурновкусии порой есть свой шарм. А кроме того — самое неприглядное язык со временем отсекает.
— И продолжая вопрос: 100 лет назад в России были изменены правила правописания. Декрет, подписанный Луначарским, по сути уничтожил несколько букв русского алфавита, путём их замены: букву «ѳ» заменили на «ф», букву «ъ» отменили в конце слов, букву «і» заменили на «и». И, наконец, букву «ѣ» (ять) заменили на «е». Чего лишилась русская цивилизация, лишившись этих важных, как мне кажется, букв?
Об этом есть студенческая статья Дмитрия Сергеевича Лихачева «О некоторых преимуществах старой русской орфографии», за которую он попал в Соловецкий лагерь. Там он подробно эту проблему рассматривает. Я же скажу коротко: языковые реформы обедняют культуру. «Ненужные» вроде бы буквы на самом деле очень важны: они отражают историю слова, а в конечном счете — языка.
— В одном из своих ранних текстов я как-то написал: «Оседлая жизнь девальвирует время, что в конечном итоге грозит эмоциональным дефолтом». Сама фраза мне кажется теперь криком, верхней фа, но мысль, заложенная в ней, по-прежнему кажется мне правильной. Из ваших текстов и интервью следует, что путешествия, несомненно, для вас важны. Что вы привозите из них?
Привожу впечатления. Путешествия как бы спрессовывают время. Количество встреч, пейзажей, интерьеров увеличивается в разы. И это делает жизнь интенсивнее. Существует, правда, опасность перенасыщения — и тогда всё сбивается в один малопривлекательный ком. Тогда его остается катить, подобно жуку-скарабею. Вытащить что-то конкретное из него невозможно.
— У меня на рабочем столе стоит портрет Джона Стейнбека — открытка, которую я привез из Салинаса, где он родился. А у вас есть талисман?
А у меня стоит фотография моего покойного кота. Над первыми романами мы работали вместе. Мне его очень не хватает.
— Вы сказали Павлу Басинскому, что текст, над которым вы работаете сейчас, может стать «главным вашим романом». Что дает основания так полагать?
Главным — для меня. Очень субъективная оценка, так что можно не обращать на нее внимания.
— Вы возглавляете центр по изучению современной русской литературы — расскажите, пожалуйста, чем этот центр занимается?
Этот центр издает ежегодник «Текст и традиция». В нем печатаются не только сотрудники Пушкинского Дома, но и литературоведы из многих стран, а также писатели. Эти тома можно полистать на сайте нашего Дома.
— И чтобы подвести итог: согласны ли вы с утверждением лауреата «Большой книги 2017» Льва Данилкина (большого, надо сказать, умельца влезать в шкуру других людей и писать о них), что «хороший текст сам найдет издателя» (или — если смотреть с другой стороны отражения, что «издатель сам найдет хороший текст»)?
Думаю, что Данилкин совершенно прав: хорошие тексты не пропадают. Ну, представьте себе, что на тротуаре лежит пятитысячная купюра. Поверьте: никто из проходящих не спутает ее с конфетной оберткой. И я не знаю того, кто поленился бы ее поднять.
Беседовал Егор Апполонов
Конечно, откуда же мне еще брать сведения, как не из виденного и пережитого? Но я не оставляю предметы на прежних местах: я их двигаю, чтобы понять — а что было бы, если бы они стояли иначе. Поэтому нет ничего более наивного, чем делать выводы биографического характера, основываясь на литературных произведениях. Да, у героя в руках нож, и у автора в руках нож. Но герой дерется с уличной бандой, а автор чистит картошку.
— «Факт, — писал в одном из писем Федин, — в большинстве случаев — лишь точка приложения силы, которую мы зовем фантазией». Что для вас первично: вымысел или факт?
Факты подбираются под определенный замысел. Допустим, герою захотелось выпить виски. Я начинаю вспоминать все сорта виски, какие пробовал, — и даю моему герою. Но если бы он не захотел выпить, я бы об этом напитке не вспомнил. «Историю» я люблю придумывать сам, поэтому я не пишу биографических романов и не написал ни одной книги в ЖЗЛ. Не рассматриваю это как большое свое достоинство. Я очень ценю писателей, которые способны влезть в шкуру исторического лица — и сантиметр за сантиметром исследовать логику его поведения. Это великий дар и великое терпение, которых я, видимо, лишен. Как Вы, возможно, заметили, в моих романах почти нет исторических лиц. Когда я пытаюсь о них писать, мне чудится окрик конвоя: шаг влево, шаг вправо... Для того чтобы хорошо описать историческое лицо, надо быть великим актером и вживаться в роль. Я по типу скорее режиссер — и требую от героев действовать так, как я скажу.
— Как вы взаимодействуете с фантазией? Она капризна или поддалась укрощению во благо творчества и доступна по первому зову?
Я стараюсь продумывать своих героев до тех пор, пока они сами не будут подсказывать мне свои шаги. Это возникает не в начале романа, а появляется погодя. Но когда герои начинают двигаться своим ходом — это самый счастливый авторский миг.
— Хемингуэй пытался реализовать в своем творчестве то, чего не делали до него другие. Ставите ли вы такую задачу перед собой?
Это никогда не было моей целью. Когда, например, я работал над «Лавром», я только и делал что писал, как писали другие — веке в XV-м. Есть произведения, в которых можно «оттопыриться» от всей души, а есть такие, в которых надо подчеркнуть свою традиционность. Всё зависит от задачи.
— Если изучить биографии писателей, то выяснится, что в процессе развития кризиса писатель может даже на время бросить свою профессию. Когда вы бросали в последний раз и бросали ли? Бывают ли у вас кризисы той силы, что заставляет усомниться в собственных силах? Как вы боретесь с кризисами и отчаянием?
Я слишком поздно начал, чтобы отвлекаться на кризисы. Это, как правило, удел писателей, которые рано стартовали. Как говорится в песне Вероники Долиной о барабанщике, «я долго жил и ни во что не бил». Читал древнерусские тексты — и молчал. А теперь мне есть, о чем барабанить. Вы правы в том, что чаще всего эта способность в какой-то момент у писателей исчезает. Самые честные из них говорят: приехали, я больше не буду писать. А многие пишут. И за всеми — своя правда, потому что очень трудно признаться себе в творческой импотенции. Допускаю, что это произойдет и со мной, но, честное слово, не знаю, каковы будут в этом случае мои шаги.
— Хемингуэй писал Фицджеральду (28 мая 1934 г., Ки-Уэст): «Бога ради, пиши и не думай о том, что скажут, или о том, будет ли твоя вещь шедевром. У меня на девяносто одну страницу дерьма получается одна страница шедевра». А как у вас? Много ли приходится переписывать?
Я думаю о том, что скажут. Но если то, что я пишу, кажется мне правильным, оставляю всё как есть. Кое-что из прежде написанного мне не нравится, но я никогда не переписываю — потому что не знаю, как. Нет ничего хуже шахматистов, которые имеют привычку «перехаживать». Тогда игра теряет всякий интерес. Да и ходы их оказываются всё равно плохими.
— Стейнбек, говоря о миссии писателя, привел такие слова: «Помимо обязанности писать увлекательно, писатель несет перед читателем ответственность: воодушевлять, вдохновлять, расширять горизонты (кругозора)». А какой вы видите свою миссию в области творчества? И думаете ли о ней вообще?
Я избегаю таких категорий, как миссия. Если взять на регистр ниже — задача, — то ее я вижу в том, чтобы предоставить читателю материал для размышления. Я, условно говоря, ставлю вопрос, на который могут быть разные ответы, и мне не важно, каким именно будет ответ. Главное — чтобы он был.
— Как вы пишете? С листа, следуя за мыслью? Или проведя подготовительные работы и управляя мыслью?
Я обычно имею план, но не очень детальный — так, чтобы у героев была возможность проявить себя. К каждому роману готовлюсь тщательно — просто, чтобы знать материал. Но это касается декораций и костюмов. Актеры же должны обладать достаточной степенью свободы.
— Какой совет вы могли бы дать людям, создающим художественные тексты?
Вероятно, Вы имеете в виду начинающих писателей. Потому что другим советы не нужны. Я бы посоветовал писать просто, без понтов. Начинающие авторы боятся писать просто — и начинают с верхней фа. Они боятся быть банальными — и сразу переходят на крик. Рано или поздно они понимают, что никого здесь не перекричишь, и начинают петь спокойно. И вот тогда, научившись нормальному пению, они время от времени пробуют высокие ноты. Но это уже те ноты, которые родились изнутри, а не от чтения Набокова, Платонова или Саши Соколова.
— Есть ли иной способ побороть неуверенность, а главное — писательскую беспомощность, кроме того, что продолжать писать?
Продолжать писать — это, наверное, лучший способ. Если автор, конечно, не капитан Лебядкин. На самом деле Вы затрагиваете большую проблему. В начале пути очень легко сломаться от безверия в свои силы. И здесь очень важно чье-то доброе слово. Доброе, но одновременно — объективное. И, наоборот, слово безжалостное может сделать калекой. Кажется, Зинаида Гиппиус, прочитав первый сборник стихов Набокова, сказала, что из него никогда не получится хороший литератор. Представляете, если бы на месте Набокова был менее уверенный в себе человек? Мы могли бы лишиться одного из лучших стилистов мировой литературы.
— Какое отношение у вас — у хранителя языка — вызывает его пугающая эволюция? Я говорю, в частности, о неологизмах, мало мне понятных, но составляющих теперь значительную часть молодежного эпоса (как устного, так и письменного). Вот безобидный, но наглядный пример: «родители вздыхали, но платили за неоднократно зафейленный мной универ» (речь главного редактора одного крупного весьма СМИ об образовании, которое failed).
Когда-то такие вещи меня сильно раздражали. Впоследствии под влиянием Максима Кронгауза — а также, видимо, в силу возраста — я стал относиться к этому терпимее. Даже в дурновкусии порой есть свой шарм. А кроме того — самое неприглядное язык со временем отсекает.
— И продолжая вопрос: 100 лет назад в России были изменены правила правописания. Декрет, подписанный Луначарским, по сути уничтожил несколько букв русского алфавита, путём их замены: букву «ѳ» заменили на «ф», букву «ъ» отменили в конце слов, букву «і» заменили на «и». И, наконец, букву «ѣ» (ять) заменили на «е». Чего лишилась русская цивилизация, лишившись этих важных, как мне кажется, букв?
Об этом есть студенческая статья Дмитрия Сергеевича Лихачева «О некоторых преимуществах старой русской орфографии», за которую он попал в Соловецкий лагерь. Там он подробно эту проблему рассматривает. Я же скажу коротко: языковые реформы обедняют культуру. «Ненужные» вроде бы буквы на самом деле очень важны: они отражают историю слова, а в конечном счете — языка.
— В одном из своих ранних текстов я как-то написал: «Оседлая жизнь девальвирует время, что в конечном итоге грозит эмоциональным дефолтом». Сама фраза мне кажется теперь криком, верхней фа, но мысль, заложенная в ней, по-прежнему кажется мне правильной. Из ваших текстов и интервью следует, что путешествия, несомненно, для вас важны. Что вы привозите из них?
Привожу впечатления. Путешествия как бы спрессовывают время. Количество встреч, пейзажей, интерьеров увеличивается в разы. И это делает жизнь интенсивнее. Существует, правда, опасность перенасыщения — и тогда всё сбивается в один малопривлекательный ком. Тогда его остается катить, подобно жуку-скарабею. Вытащить что-то конкретное из него невозможно.
— У меня на рабочем столе стоит портрет Джона Стейнбека — открытка, которую я привез из Салинаса, где он родился. А у вас есть талисман?
А у меня стоит фотография моего покойного кота. Над первыми романами мы работали вместе. Мне его очень не хватает.
— Вы сказали Павлу Басинскому, что текст, над которым вы работаете сейчас, может стать «главным вашим романом». Что дает основания так полагать?
Главным — для меня. Очень субъективная оценка, так что можно не обращать на нее внимания.
— Вы возглавляете центр по изучению современной русской литературы — расскажите, пожалуйста, чем этот центр занимается?
Этот центр издает ежегодник «Текст и традиция». В нем печатаются не только сотрудники Пушкинского Дома, но и литературоведы из многих стран, а также писатели. Эти тома можно полистать на сайте нашего Дома.
— И чтобы подвести итог: согласны ли вы с утверждением лауреата «Большой книги 2017» Льва Данилкина (большого, надо сказать, умельца влезать в шкуру других людей и писать о них), что «хороший текст сам найдет издателя» (или — если смотреть с другой стороны отражения, что «издатель сам найдет хороший текст»)?
Думаю, что Данилкин совершенно прав: хорошие тексты не пропадают. Ну, представьте себе, что на тротуаре лежит пятитысячная купюра. Поверьте: никто из проходящих не спутает ее с конфетной оберткой. И я не знаю того, кто поленился бы ее поднять.
Беседовал Егор Апполонов
Об авторе
Евгений Водолазкин. Биографическая справка
Евгений Водолазкин — писатель, литературовед, доктор филологических наук. Опубликованный в 2009 году роман Водолазкина «Соловьев и Ларионов» вошел в шорт-лист премии «Большая книга». Следующий роман, «Лавр», был удостоен этой премии в 2013 году, а также получил премию «Ясная Поляна» и премию конвента Портал. В 2015 году Евгений Водолазкин был награжден сербской премией «Милован Видакович». В 2016 году за роман «Лавр» удостоен итальянско-русской Премии Горького (Сорренто).
