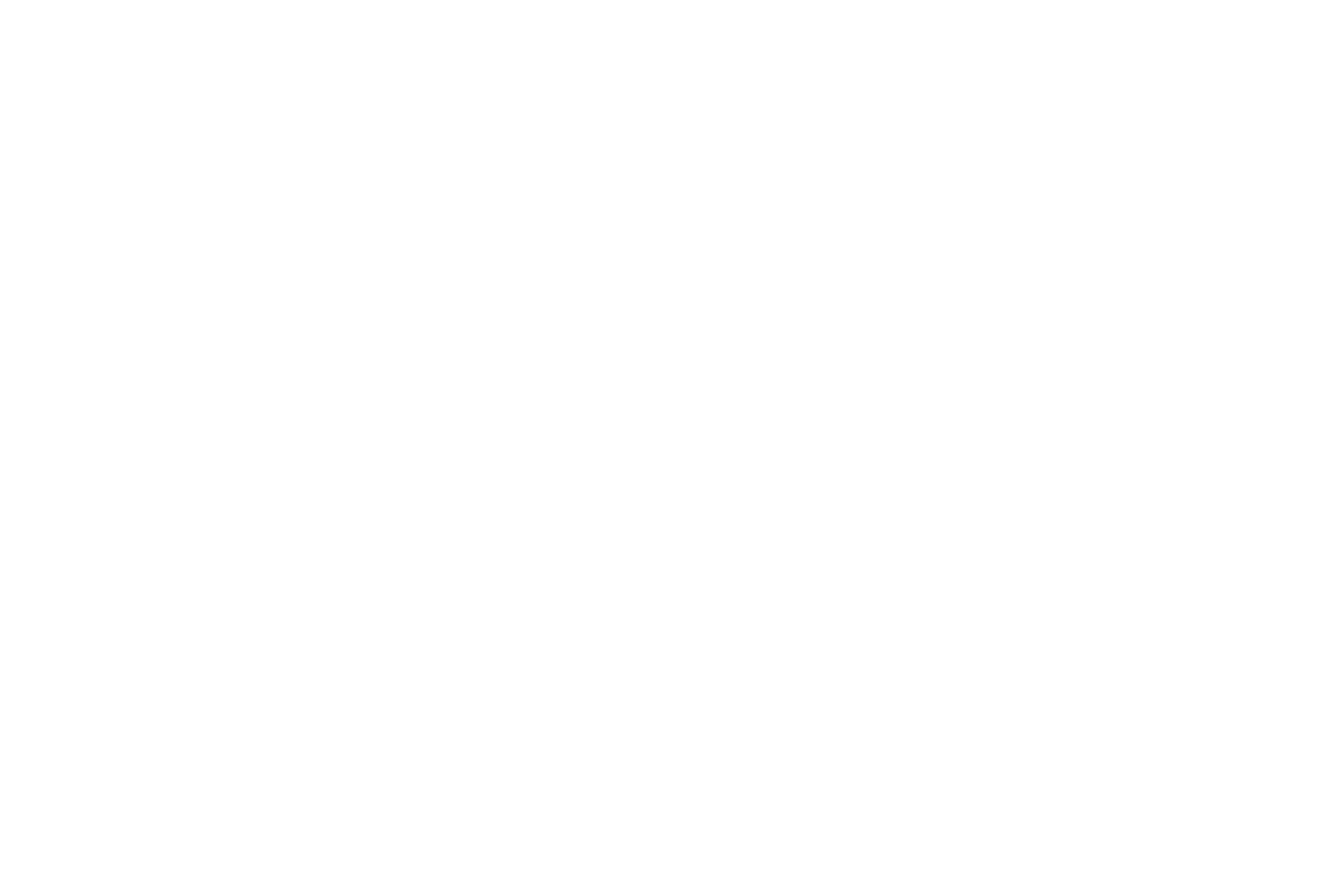
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Если плохо, когда не пишется, значит ты писатель».
Лауреат и член жюри литературной премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко — о мелодии души, поражениях и абсолютном счастье писателя.
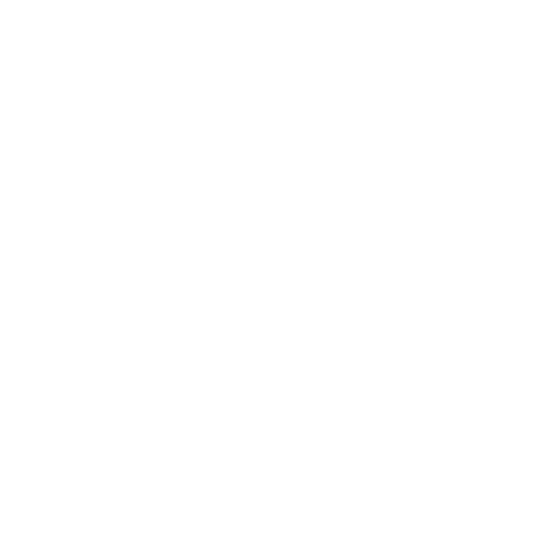
Владислав Отрошенко, писатель
— Начну с главного: как побороть в себе страх неудачи?
— Верить в себя. Продолжать работать и совершенствоваться. Примеров неудачного писательского дебюта масса. Ярчайший — Гоголь и его поэма «Ганц Кюхельгартен». Николай Васильевич сжег текст и потом страшно его стеснялся. Я, как и все писатели, начинал писать и не заканчивал множество текстов. Мне казалось — вот, пишу, как настоящий писатель. Сижу, что-то сочиняю. Создан антураж. Листы бумаги, пепельница, чашка кофе... Так продолжалось много лет. Ничего не получалось, но я не отчаивался. Потому что с подросткового возраста во мне росла уверенность.
— В чем?
— В том, что я писатель. Я не знаю, с чем это связано. Я это знал. Другое дело, что я не знал, добьюсь ли успеха. Ведь абсолютное чувство веры в успех и в собственные силы есть только у идиотов и графоманов. Вера то приходит, то уходит. Особенно, когда пишешь объемную вещь. Сомнения — попутчик прогресса. И тем не менее, повторюсь, я знал, что буду писателем.
— Откуда?
— Писатели происходят из детского мироощущения. Из повышенного чувства одиночества, которое возникало, повышенной восприимчивости, чувства непохожести со сверстниками. То чувство белой вороны. Умение отстраненно смотреть и на себя самого, и на людей, оно оттуда идет. Это чувство и выливается на бумагу. Помню себя в детстве: я не нуждался в партнерах по игре. Любил играть один. Не любил, когда взрослые лезли в игры. И это настолько самодостаточное одиночество, причем не трагическое, не драматическое.
— Когда вы начали писать?
— Осознанно, когда мне исполнилось двенадцать. Я услышал рассказ дяди-моряка, историю, которая показалась мне романтической. В действительности — банальная история, как моряк в порту снял бабенку, и они переспали. Дядя рассказывал это во взрослой компании, а я краем уха услышал, и в голове она преобразилась в романтическую сказку. Я сел сочинять. Во мне загорелась эта потребность — рассказывать истории. Потом было еще много фальстартов. С двенадцати лет я пробовал. И мне всякий раз казалось, что я скоро стану писателем. Но нет. Я подражал, придумывал наивные истории. Но возникало чувство «вот оно».
— Верить в себя. Продолжать работать и совершенствоваться. Примеров неудачного писательского дебюта масса. Ярчайший — Гоголь и его поэма «Ганц Кюхельгартен». Николай Васильевич сжег текст и потом страшно его стеснялся. Я, как и все писатели, начинал писать и не заканчивал множество текстов. Мне казалось — вот, пишу, как настоящий писатель. Сижу, что-то сочиняю. Создан антураж. Листы бумаги, пепельница, чашка кофе... Так продолжалось много лет. Ничего не получалось, но я не отчаивался. Потому что с подросткового возраста во мне росла уверенность.
— В чем?
— В том, что я писатель. Я не знаю, с чем это связано. Я это знал. Другое дело, что я не знал, добьюсь ли успеха. Ведь абсолютное чувство веры в успех и в собственные силы есть только у идиотов и графоманов. Вера то приходит, то уходит. Особенно, когда пишешь объемную вещь. Сомнения — попутчик прогресса. И тем не менее, повторюсь, я знал, что буду писателем.
— Откуда?
— Писатели происходят из детского мироощущения. Из повышенного чувства одиночества, которое возникало, повышенной восприимчивости, чувства непохожести со сверстниками. То чувство белой вороны. Умение отстраненно смотреть и на себя самого, и на людей, оно оттуда идет. Это чувство и выливается на бумагу. Помню себя в детстве: я не нуждался в партнерах по игре. Любил играть один. Не любил, когда взрослые лезли в игры. И это настолько самодостаточное одиночество, причем не трагическое, не драматическое.
— Когда вы начали писать?
— Осознанно, когда мне исполнилось двенадцать. Я услышал рассказ дяди-моряка, историю, которая показалась мне романтической. В действительности — банальная история, как моряк в порту снял бабенку, и они переспали. Дядя рассказывал это во взрослой компании, а я краем уха услышал, и в голове она преобразилась в романтическую сказку. Я сел сочинять. Во мне загорелась эта потребность — рассказывать истории. Потом было еще много фальстартов. С двенадцати лет я пробовал. И мне всякий раз казалось, что я скоро стану писателем. Но нет. Я подражал, придумывал наивные истории. Но возникало чувство «вот оно».
Абсолютное чувство веры в успех и в собственные силы есть только у идиотов и графоманов.
— В какой момент это чувство появилось?
— В тот момент, когда я уже отчаялся. Я бросал, не дописывал тексты. Что-то мешало. В текстах не было мотора, который бы двигал слова. В них не было главного. Знаешь, что главное в искусстве? Ведь все сюжеты и вправду уже придуманы. Как правильно подметил Борхес — историй всего четыре. О городе, который штурмуют и обороняют герои, о возвращении, о поиске и о самоубийстве бога. Когда я преподавал литературное мастерство в «Русском пионере», я говорил студентам: вот четыре истории, но есть пятая, которую вы можете в этот мир принести. Пятая история — о Борхесе, который придумал, что историй всего четыре. У каждого писателя своя история. Мы привносим в мир то, чего не было до нас. Придумать сюжет несложно. А вот найти интонацию души, которая у каждого своя, гораздо сложнее. Мелодия души, которую писатель транслирует с первых удавшихся попыток, уникальна. Почему ранние вещи не получаются? Потому что в них нет интонации. Это тонкая и неуловимая сущность в искусстве. Ты вдруг понимаешь, что в тебе говорит голос, который ты то чуть опережаешь, пытаясь записать, то он тебя опережает. Голос вдруг начинает звучать.
— Как вы услышали его?
— После горы неудачных попыток — я вдруг услышал голос. Как я понял, что это он? Приведу аналогию: как отличить оргазм, полученный с женщиной, от самоудовлетворения? Механизм ведь один и тот же. Результат одинаковый. Но каждый мужчина знает, в чем разница и легко ее отличает. С искусством так же.
Услышал голос я при волнительных обстоятельствах. Я закончил факультет журналистики МГУ и работал на Radio Moscow, почти в контрразведке. Вещание шло на 170 стран. Я работал младшим редактором в главной редакции информации. Готовил доклады для начальника отдела Плевако по советской прессе и по зарубежным агентствам. Делаешь выжимки и рассылаешь по редакциям. Наговорит Косыгин или Громыко на 10 страниц текста, задача — сделать сжатый материал на 10 строк. После Плевако шел с докладом к Лапину, тогдашнему директору Гостелерадио СССР. Я числился маленьким винтиком большой системы. Помимо дневных мне доставались жуткие ночные дежурства. Ты сидишь «на телетайпе» в герметичной комнате (я астму там заработал) и анализируешь «входящие» материалы, часть из которых под эмбарго до определенного часа.
И вот, отработав полтора года в критических условиях и не думая ни о какой литературе — сидя в прокуренной наглухо комнате, я хотел лишь глотнуть свежего воздуха и выспаться нормально — я вдруг услышал «мелодию». Пришли образы, как будто приоткрылся шлюз. Мелодии полились с определенной интонацией. Под стук аппаратов, я стал записывать. Я хорошо помню этот момент. Это происходило на фоне противостояния с США — Рейган, гонка вооружений, «Звездные войны». А я, вместо того, чтобы следить за повесткой, отрывал куски бумаги от лент телетайпа и записывал текст. Не думая, зачем. Забегая вперед, скажу: с Гостелерадио СССР меня выгнали благодаря «Двору прадеда Гриши» — сборнику, который я начал в телетайпной.
— Почему выгнали?
— Я эту историю раньше не рассказывал. Дело было так. Ночь за ночью я приходил на смену и продолжал записывать. Уже появились наметки первых двух рассказов. Я знал — «это оно». Я работал в окрыленном, одухотворенном состоянии. Чувствовал, что я ничего не боюсь. Работа отошла на второй план. Я возвращался туда, потому что телетайпная создавала «магическую атмосферу». Я писал под стук аппаратов, в прокуренной наглухо герметичной комнате. Ду-ду-ду-ду. Стучат аппараты. Бумага с шуршанием вываливается из них. Вокруг трещит. Меня это не отвлекало. Наоборот. Кстати, если писатель ищет условия для творчества — ну там домик на берегу моря, тишина — это чушь. Просветление приходит где угодно.
Итак, я писал. А в мире произошло глобальное мировое событие. Министра иностранных дел Андрея Громыко сделали Председателем Совета Министров СССР. Это резкое повышение, и Рейган очень тепло поздравил коллегу, несмотря на холодную войну. Видимо, сделал стратегический шаг. В Политбюро посовещались и дали очень теплый ответ на поздравление. Американцы сделали шаг, мы сделали шаг. И вот такой ответный поклон пришел в мою смену. С пометкой «эмбарго до двух ночи». Материал нельзя выпускать ни в какие СМИ, пока не вышло время. Я, увлеченный написанием рассказов, подготовил материал к эфиру и сделал врезку: «Громыко благодарит Рейгана в ответ на его поздравления». И так далее. Зная время снятия запрета на публикацию, я продолжаю работу. Выпущу в два ночи, думаю я. И пишу. Через час в мире происходит такое событие: делая радиопробу у себя в Америке, Рейган вместо «раз, два, три, хорошо ли меня слышно», в шутку так говорит: «я приказываю поднять все бомбардировщики США и лететь бомбить русских». Это задокументированный факт.
Естественно новость разлетелась по новостным агентствам мира. И тут же стало центральной новостью. И, конечно же, на ленту в телетайпную пришло сообщение — немедленно снять материал с благодарностями председателя совмина. Решили они там видимо так: молчание на поздравление и станет ответом на безбашенную шутку Рейгана. А я продолжал отрывать бумагу и записывать рассказы — не заметил распоряжения на ленте. Отдежурил ночную смену, вышел на утреннюю — так я тогда работал. Прихожу часам к одиннадцати и вижу переполох. Думаю: «Что случилось»? И вскоре выясняю, что я, двадцатидвухлетний пацан, вмешался в мировую политику и провалил задумку «ответить Рейгану». Случился страшный скандал. Рейгана — так вышло — поблагодарили, несмотря ни на какие шутки. А меня «укатали». И тем не менее, я благодарен тому случаю. Тогда я начал писать. Почувствовал защищенность тем, что я пишу. Стал другим человеком на клеточном уровне. Даже астма прошла.
— В тот момент, когда я уже отчаялся. Я бросал, не дописывал тексты. Что-то мешало. В текстах не было мотора, который бы двигал слова. В них не было главного. Знаешь, что главное в искусстве? Ведь все сюжеты и вправду уже придуманы. Как правильно подметил Борхес — историй всего четыре. О городе, который штурмуют и обороняют герои, о возвращении, о поиске и о самоубийстве бога. Когда я преподавал литературное мастерство в «Русском пионере», я говорил студентам: вот четыре истории, но есть пятая, которую вы можете в этот мир принести. Пятая история — о Борхесе, который придумал, что историй всего четыре. У каждого писателя своя история. Мы привносим в мир то, чего не было до нас. Придумать сюжет несложно. А вот найти интонацию души, которая у каждого своя, гораздо сложнее. Мелодия души, которую писатель транслирует с первых удавшихся попыток, уникальна. Почему ранние вещи не получаются? Потому что в них нет интонации. Это тонкая и неуловимая сущность в искусстве. Ты вдруг понимаешь, что в тебе говорит голос, который ты то чуть опережаешь, пытаясь записать, то он тебя опережает. Голос вдруг начинает звучать.
— Как вы услышали его?
— После горы неудачных попыток — я вдруг услышал голос. Как я понял, что это он? Приведу аналогию: как отличить оргазм, полученный с женщиной, от самоудовлетворения? Механизм ведь один и тот же. Результат одинаковый. Но каждый мужчина знает, в чем разница и легко ее отличает. С искусством так же.
Услышал голос я при волнительных обстоятельствах. Я закончил факультет журналистики МГУ и работал на Radio Moscow, почти в контрразведке. Вещание шло на 170 стран. Я работал младшим редактором в главной редакции информации. Готовил доклады для начальника отдела Плевако по советской прессе и по зарубежным агентствам. Делаешь выжимки и рассылаешь по редакциям. Наговорит Косыгин или Громыко на 10 страниц текста, задача — сделать сжатый материал на 10 строк. После Плевако шел с докладом к Лапину, тогдашнему директору Гостелерадио СССР. Я числился маленьким винтиком большой системы. Помимо дневных мне доставались жуткие ночные дежурства. Ты сидишь «на телетайпе» в герметичной комнате (я астму там заработал) и анализируешь «входящие» материалы, часть из которых под эмбарго до определенного часа.
И вот, отработав полтора года в критических условиях и не думая ни о какой литературе — сидя в прокуренной наглухо комнате, я хотел лишь глотнуть свежего воздуха и выспаться нормально — я вдруг услышал «мелодию». Пришли образы, как будто приоткрылся шлюз. Мелодии полились с определенной интонацией. Под стук аппаратов, я стал записывать. Я хорошо помню этот момент. Это происходило на фоне противостояния с США — Рейган, гонка вооружений, «Звездные войны». А я, вместо того, чтобы следить за повесткой, отрывал куски бумаги от лент телетайпа и записывал текст. Не думая, зачем. Забегая вперед, скажу: с Гостелерадио СССР меня выгнали благодаря «Двору прадеда Гриши» — сборнику, который я начал в телетайпной.
— Почему выгнали?
— Я эту историю раньше не рассказывал. Дело было так. Ночь за ночью я приходил на смену и продолжал записывать. Уже появились наметки первых двух рассказов. Я знал — «это оно». Я работал в окрыленном, одухотворенном состоянии. Чувствовал, что я ничего не боюсь. Работа отошла на второй план. Я возвращался туда, потому что телетайпная создавала «магическую атмосферу». Я писал под стук аппаратов, в прокуренной наглухо герметичной комнате. Ду-ду-ду-ду. Стучат аппараты. Бумага с шуршанием вываливается из них. Вокруг трещит. Меня это не отвлекало. Наоборот. Кстати, если писатель ищет условия для творчества — ну там домик на берегу моря, тишина — это чушь. Просветление приходит где угодно.
Итак, я писал. А в мире произошло глобальное мировое событие. Министра иностранных дел Андрея Громыко сделали Председателем Совета Министров СССР. Это резкое повышение, и Рейган очень тепло поздравил коллегу, несмотря на холодную войну. Видимо, сделал стратегический шаг. В Политбюро посовещались и дали очень теплый ответ на поздравление. Американцы сделали шаг, мы сделали шаг. И вот такой ответный поклон пришел в мою смену. С пометкой «эмбарго до двух ночи». Материал нельзя выпускать ни в какие СМИ, пока не вышло время. Я, увлеченный написанием рассказов, подготовил материал к эфиру и сделал врезку: «Громыко благодарит Рейгана в ответ на его поздравления». И так далее. Зная время снятия запрета на публикацию, я продолжаю работу. Выпущу в два ночи, думаю я. И пишу. Через час в мире происходит такое событие: делая радиопробу у себя в Америке, Рейган вместо «раз, два, три, хорошо ли меня слышно», в шутку так говорит: «я приказываю поднять все бомбардировщики США и лететь бомбить русских». Это задокументированный факт.
Естественно новость разлетелась по новостным агентствам мира. И тут же стало центральной новостью. И, конечно же, на ленту в телетайпную пришло сообщение — немедленно снять материал с благодарностями председателя совмина. Решили они там видимо так: молчание на поздравление и станет ответом на безбашенную шутку Рейгана. А я продолжал отрывать бумагу и записывать рассказы — не заметил распоряжения на ленте. Отдежурил ночную смену, вышел на утреннюю — так я тогда работал. Прихожу часам к одиннадцати и вижу переполох. Думаю: «Что случилось»? И вскоре выясняю, что я, двадцатидвухлетний пацан, вмешался в мировую политику и провалил задумку «ответить Рейгану». Случился страшный скандал. Рейгана — так вышло — поблагодарили, несмотря ни на какие шутки. А меня «укатали». И тем не менее, я благодарен тому случаю. Тогда я начал писать. Почувствовал защищенность тем, что я пишу. Стал другим человеком на клеточном уровне. Даже астма прошла.
— В вашем дебютном сборнике «Двор прадеда Гриши» одиннадцать рассказов. Они быстро написались?
— Пять или шесть написались на одном дыхании. На середине возникло страшное торможение. Вдруг бах — и остановилось. Я испытал ужас. Думал — вот же оно, пошло. Почему вдруг ступор? Две-три недели, не мог сдвинуться с места. Так плохо мне еще не было. Физически трясло. Жуть. Гоголь однажды о себе сказал: «Бог отъял у меня способность творить» — страшные слова, он это осознал. Мне тоже стало страшно. И когда все вернулось, я испытал состояние счастья. Последний рассказ цикла тоже «встал» на месяц. Я не находил правильные слова. Лежал, отчаявшись, не зная, как этот рассказ завершить. Понимал, что без него цикл незаконченный.
И как-то днем уснул на диване возле «радиоточки» — приемника, который висел на стене в каждой советской квартире. И вот я слышу, что передают тот рассказ, который я силюсь написать. Я встаю и думаю: «Вот же подлец, что он говорит?». Сажусь за стол и записываю слова, которые доносятся из динамика. Допечатав, ложусь на диван. Просыпаюсь уже под вечер. Сразу же понимаю — приснится же такое. Радиоточка еще вещает. И вдруг вижу на столе исписанные листы. И понимаю, что рассказ написан до финальной точки. Я не знаю, что это было, но такие случаи происходят. Я пишу в измененном состоянии сознания. И это непередаваемое ощущение. Вот на эту тему у меня есть эссе «Встреча в Тамбове» — про то, как Андрей Платонов вдруг увидел себя, наяву пишущего, со стороны. Когда я закончил серию рассказов, я знал: «Это хорошо. У меня получилось».
— Чем вы можете объяснить писательский ступор?
— Природа писательского затыка для меня непостижима. Мне кажется, речь о дисбалансе внутреннего критика и внутреннего писателя. Учитесь входить в трансовое состояние, когда нет никаких внутренних тормозов и критик молчит. Некоторые писатели говорят: критика отключать нельзя. Отвечу так: важен баланс. Если в писателе сидит «очень-очень большой писатель» и «маленький-маленький, крохотный, как муравей, критик», ничего не получится. Потому что «большой писатель» придавит маленького критика, как клопа. Он начнет говорить: «Молчи, я писатель. А ты муравей. Не тебе, идиоту, знать, как писать великие романы».
— Вы сейчас графомана описали.
— Пожалуй. Или обратный сценарий: «большой-большой критик», стоит только писателю написать пару слов, кричит: «Что ты пишешь, чмо, ты кто такой? Ты самозванец! Выданные литературные потуги — посмешище». И то, и другое — ужасно. Это крайности. Нужен баланс. Гармония в мире построена на балансе. Международные отношения? Они выстроены на балансе. Выстроив такой баланс внутри себя, ты освобождаешься и получаешь право работать. Стоит критику или писателю вылезти, возвыситься, сразу натыкаешься на «кочку», спотыкаешься и сбиваешься с ритма. Временами баланс нарушается. Это «побочный эффект» творчества.
— Как уравновесить чашу весов?
— Продолжать работать. И не завидовать другим. Зависть разрушает баланс. Вот ты впал в ступор. А другие сидят и пишут. И ты думаешь: «Боже, человек уже полромана написал за пять месяцев, а я — два предложения». У каждого свой ритм. Нельзя ориентироваться на других. При этом изучение опыта других писателей — крайне полезная вещь. В одиночку продвигаться вперед сложнее. Когда я учился, я изучал творчество Гоголя. И когда увидел, что он мог по восемь недель — этому дано свидетельство Берга, который Гоголя навещал в моменты застоя — писать одно предложение, я успокоился. Я работаю над текстом, для которого собрал столько материала. Зарылся в такие дебри. Мне страшно. А потом я вспоминаю историю «Хаджи-Мурата». Лев Толстой писал эту вещь восемь лет. Он тоже зарылся в материал и изучил досконально Кавказскую войну. Изучая опыт других писателей, ты понимаешь, что ступоры и остановки неизбежны. В профессии писателя много издержек.
— Мне кажется, их больше, чем бонусов.
— Бонус только один — ты пишешь. Когда пишется, тебе хорошо. Что еще? Деньги? Признание? Это приятные дополнения, но не более. Главное в писательстве одно — когда тебе пишется, ты чувствуешь себя неуязвимым. Для времени, потому что живешь в другом временном измерении. Когда ты пишешь, ты не думаешь календарными константами — понедельник, вторник, среда, четверг и так далее — ты живешь по внутреннему времени. Ты замедляешь время. Время исчезает. Эйнштейн утверждал, что космонавт, который улетает от земли со скоростью света, живет в другом временном измерении. На земле проходят века, для него — мгновения. Вспомните фильм «Интерстеллар». Писатель — в каком-то роде космонавт. Когда ты пишешь, ты влияешь на время, психику, здоровье. Ты становишься неуязвимым даже для смерти. Ты будто смотришь на мир сквозь толстое стекло.
— А что с побочными эффектами?
— К ним относится чрезвычайная лабильность психики. Я брата-писателя узнаю по предрасположенности к резким перепадам настроения, вегетососудистой дистонии, паническим атакам, повышенной рефлексии. И так далее. Я знал одного писателя — обойдемся без имен — которому нужно было вдрызг с кем-нибудь разругаться, чтобы писалось. Кому-то пишется с дикого похмелья (видимо от стыда за содеянное). Психика у писателя расшатанная. Она такова изначально, с детства. Сильные травмы, пережитые в детстве, и сильные положительные чувства закладывают диапазон раскачивания маятника в обе стороны. Без сильного качания маятника — от чувства счастья до ощущение глубочайшей депрессии — творчества нет. Этот диапазон и определяет твой фарватер творчества. Как человек ты страдаешь, потому что ты становишься психически неустойчивой личностью.
— Вы согласны с тем, что писатель всю жизнь пишет одну книгу?
— Писатель выражает одну и ту же мелодию души. В этом задача приходящего в этот мир писателя — выразить мелодию своей души. К мелодии прикладывается все остальное — сюжеты, герои. Яркий образец выражения мелодии души — Том Вулф и его гениальный роман «Взгляни на дом свой, ангел». Вулф работал как мощнейший транслятор. Он был настолько мощно заряжен мелодией, которая в нем звучала, что всегда писал в потоке. Или возьмем Чехова. Его мелодия узнаваема. Образованный человек скажет — вот чеховские рассказы. Обманчивая внешняя бессюжетность и определяет «звучание» Чехова.
— Как бы вы расшифровали мелодию Чехова?
— Чехов писал о тончайших духовных струнах. Расшифровывал жизнь. Это сложный вопрос. Я о своем творчестве этого сказать не могу. Останавливает меня недавно гаишник. Спрашивает — где работаешь? Я ему — нигде, я писатель. Он мне — о чем пишешь? И вот этот примитивный вопрос гаишника — вопрос моей жизни. Я ему так и ответил — пишу о жизни и о смерти. О чем писал Толстой? Он писал о смерти. Толстой писал, как человек борется и побеждает или не побеждает смерть. Как человек живет в этом мире, зная, что обязательно умрет. Как находит точку опоры. Это расшифровки. Но писал Толстой о смерти. О чем писал Бунин? О мучительной прелести мира. Главная мелодия — как человек страдает от этой красоты. Каждый писатель вносит вклад в познание мира — в этом миссия. Но лучше не задавать себе вопрос, какова твоя мелодия души. Это загасит искру исследователя. И что дальше?
— Вопрос о том, можно ли настроиться на эти волны. У меня тоже сложилось ощущение, что писатель — это человек, который пишет из какого-то некоего эзотерического приемника, подкручивает там какие-то ручки и трансляция приходит ему. Вот можно ли настроиться на это вещание с верхних этажей ноосферы, и есть ли какие-то способы?
— В принципе, да. Это интересный вопрос, потому что он затрагивает тонкие, я бы даже сказал, интимные стороны писательского искусства. Я бы назвал подходящий для приема мелодии настрой «состав вдохновения». У каждого писателя он уникален. У атмосферы вдохновения сложная архитектура. Настраивает на творчество состояние покоя, когда ты знаешь, что тебе никуда не надо идти. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Когда ты обрастаешь щетиной, ходишь в грязных трениках дома, черт знает как, неряшливый, с немытой головой.
— Это вы о себе говорите или в принципе?
— Я говорю отчасти и о себе. Для меня эти вещи важны. Первая главная вещь: ощущение, что в обозримом будущем мне никуда не надо. Полный штиль. Нет, я могу выйти из дома, если захочу. Но по собственной воле. Это первое условие одиночества и покоя. Когда ты можешь побыть наедине с собой, валяться на диване. У итальянцев есть слово «фарниенте», что переводится как «ничего не делать». Я говорю о «медитативном фарниенте». Когда ты ничего не делаешь, потому что тебе ничего не надо. Второе обязательное условие — чтение. Я люблю читать в моменты ничегонеделания латинский словарь. Открывать и читать. Люблю читать Канта. Чуть в меньшей мере Шопенгауэра.
— Не выбивают ли из состояния покоя внешние обстоятельства?
— Они заглушаются. Когда тебе пишется, ты заглушаешь жизнь вокруг. Когда ты работаешь, внешняя жизнь затихает. Чем она однообразнее, тем лучше.
— Хемингуэй бы не согласился. Но это так, небольшая ремарка. А описанное вами — это ведь вхождение в транс. Замедление сердцебиения, изменение ритма дыхания, медитации.
— Верно. Вы замедляете темп своей жизни, потому что в лихорадке сложно поймать состояние, когда пишется. Во всяком случае мне. И вот, как адепт восточных практик, ты замедляешь эмоциональную жизнь. И впадаешь в транс. Раз уж мы говорим о восточных практиках — ты соединяешься с Пурушей (согласно индуистской мифологии, существо, из тела которого создана Вселенная — прим. ред.). Он в каждом. Пуруша невозмутим. Почему? Потому что знает, что «жизнь» — временная оболочка. Жизнь не подвержена ни времени, ни событиям, ни эмоциям. Она течет. Как река. Без начала и конца. Когда ты пишешь — личная жизнь заглушается.
У меня есть повесть «По следам дворцового литавриста», где исследуются две противоположности — «сновидческая реальность» и «реальная реальность». В чем феномен сна? В том, что когда ты там, в сновидении, тебя не волнуют события твоей повседневной жизни, которой ты живешь. Тебя волнуют события той жизни, которую ты проживаешь. Вот почему, когда ты пишешь, эмоции «там» бьют через край. Все переворачивается с ног на голову.
— У вас такое бывало?
— Да. Я писал «Дело об инженерском городе», повесть цикла «Персона вне достоверности». Сделал паузу. Вышел на прогулку с собакой, которую безумно люблю. Единственное биологическое существо, которому я разрешаю заходить в кабинет, когда пишу. Вот какая это любовь. Это важно для понимания дальнейших деталей. Так вот я вышел в магазин — за сигаретами. Привязал собаку у входа. На кассе, когда расплачивался, в голове зазвучали фразы. Я в бессознательном состоянии выскочил из магазина и помчался домой. Работал до позднего вечера. И вот уже ближе к полуночи, незапертая дверь раскрывается и в квартиру влетает собака. Грязная, без ошейника. Понимаете, я отключился в магазине. И забыл, что пришел не один. Я запомнил этот случай — он проиллюстрировал издержки писательской работы. Внешний мир перестает существовать, когда ты впадаешь в транс.
— Глубина транса и отличает истинное творчество от словесной архитектуры?
— Писатель владеет техниками письма. Но также обучен технике владения собственным духом, своей души. Писатель — недопроявленная фотография. Ты сидишь в растворе своей души и допроявляешь, допроявляешь, допроявляешь. Если тебе на фотографии ясна каждая деталь до последней черточки — где тут творчество? Ты просто выстраиваешь словесные конструкции.
— Стивен Кинг сказал, что он — археолог, который ползает с кисточкой по полю вдохновения и ищет «окаменелости». И когда он находит очередной фрагмент текста у себя в сознании, он не знает, что нашел — черепок разбитой вазы или утерянный Вавилон. И чем дольше он сидит с кисточкой, отметая песок сомнений, тем отчетливее проявляется, говоря вашими словами, фотография. Вы пишете, судя по всему, так же?
— Примерно так, да. Первая фаза — состояние замысла, в котором ты пребываешь какое-то время. Видишь вспышку. Происходит некий взрыв. И вдруг вспышка застывает.
— Как рождение или смерть новой звезды…
— Да. И в этот момент тебе легко двигаться вперед. Ты видишь текст, который тебе предстоит написать. Умирают все — внутренний критик, внутренний писатель. Остается только вспышка. Ты паришь в вакууме — как космонавт, о котором я сказал выше, — и это состояние невесомости дарит счастье. Параллельно приходят интонации, герои, сюжет. У меня происходит вот так. Я будто бы получаю ключ истории. Записываю первое предложение. И в этом первом предложении, как в коконе, хранится вселенная текста. Когда ты зафиксировал это начало, дальше начинается работа. Эйфории уже нет. Уровень счастья как бы понижается на ступень. Счастье зависит от того, как тебе работается (или не работается).
— Эти вспышки поддаются контролю?
— Нет, к сожалению. Идеи часто приходят из чепухи. Но когда ты испытываешь такую вспышку сознания — это абсолютное счастье.
— Вы сказали однажды, что счастье — это соразмерность пришедшего замысла навыкам писателя.
— Счастливый замысел тот, что соразмерен с писательскими умениям в текущий момент. Приведу в пример Гоголя. Первый том «Мертвых душ» — замысел, соразмерный гению Гоголя. А второй том… В процессе работы началась борьба между творцом и творением, когда творец нагромоздил над творением невообразимые конструкции. Гоголь говорил: первый том «Мертвых душ» — это крыльцо. А потом появится дворец. Выяснилось, что крыльцо было настоящим, а дворец рухнул. Под обломками Гоголь, собственно, и погиб. Я об этом пишу в «Гоголиане». Штука в том, что писателю с опытом — так устроено во вселенной — приходят замыслы, соразмерные текущему опыту. Ведь нет ничего страшнее, чем осознание неподъемности замысла, который у тебя возник. Некоторые не выдерживают. Но с другой стороны — замысел часто выводит тебя на новый уровень, и после окончания работы ты становишься другим человеком.
— Вы носите с собой записную книжку, делаете заметки?
— Листочки, да. Дома ждут своего часа кусочки написанных фрагментов. Эдакие замороженные эмбриончики. Самое большое время между написанным первым предложением и уже готовой вещью — тридцать пять лет. Сразу после «Двора прадеда Гриши» я написал предложение, описывающее старика, который сидит в дупле старой ивы и грезит, что его ноги на другой стороне реки. Я записал пару строк. Дальше не двинулось. Два года назад я достал истлевшие уже листы. И стал пересматривать. Мне тогда не писалось, и я решил — пересмотрю старые записи. Так вот, смотрю я на этого старика и говорю себе: это же элементарно. И за два месяца написал серию миниатюр «Фигуры Дона». Видите — тридцать пять лет. Большая, согласитесь, дистанция.
— А влияют ли на ваше творчество «внешние факторы»?
— Я написал цикл «Языки нимродовой башни». Миниатюры о языках, которые возникли после разрушения Вавилонской башни. Виновники — редакторы Esquire, которые позвонили и спросили, могу ли я написать рассказ в 72 слова. Я удивился — почему 72? Они говорят: «Никто не знает, от балды придумали». Но я согласился. Интересная, шахматная задача. Я решил писать не лажу, а историю с сюжетом. И за три дня — было непросто, признаюсь — написал рассказ «Язык Народа Йон». Пять строк. Сюжет такой: жил такой народ йон, который при строительстве Вавилонской башни ничего не делал, только пел песни. Когда башня рухнула, Господь наделил народы языками, а йонцам достался такой язык из пяти слов: «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Я написал текст и вдруг за ним выскочил еще один вагончик. А потом еще один. А потом появился паровозик. Так появилась серия, переведенная на несколько языков. Но не случись звонка из Esquire, возможно, не было бы этой серии.
— Пять или шесть написались на одном дыхании. На середине возникло страшное торможение. Вдруг бах — и остановилось. Я испытал ужас. Думал — вот же оно, пошло. Почему вдруг ступор? Две-три недели, не мог сдвинуться с места. Так плохо мне еще не было. Физически трясло. Жуть. Гоголь однажды о себе сказал: «Бог отъял у меня способность творить» — страшные слова, он это осознал. Мне тоже стало страшно. И когда все вернулось, я испытал состояние счастья. Последний рассказ цикла тоже «встал» на месяц. Я не находил правильные слова. Лежал, отчаявшись, не зная, как этот рассказ завершить. Понимал, что без него цикл незаконченный.
И как-то днем уснул на диване возле «радиоточки» — приемника, который висел на стене в каждой советской квартире. И вот я слышу, что передают тот рассказ, который я силюсь написать. Я встаю и думаю: «Вот же подлец, что он говорит?». Сажусь за стол и записываю слова, которые доносятся из динамика. Допечатав, ложусь на диван. Просыпаюсь уже под вечер. Сразу же понимаю — приснится же такое. Радиоточка еще вещает. И вдруг вижу на столе исписанные листы. И понимаю, что рассказ написан до финальной точки. Я не знаю, что это было, но такие случаи происходят. Я пишу в измененном состоянии сознания. И это непередаваемое ощущение. Вот на эту тему у меня есть эссе «Встреча в Тамбове» — про то, как Андрей Платонов вдруг увидел себя, наяву пишущего, со стороны. Когда я закончил серию рассказов, я знал: «Это хорошо. У меня получилось».
— Чем вы можете объяснить писательский ступор?
— Природа писательского затыка для меня непостижима. Мне кажется, речь о дисбалансе внутреннего критика и внутреннего писателя. Учитесь входить в трансовое состояние, когда нет никаких внутренних тормозов и критик молчит. Некоторые писатели говорят: критика отключать нельзя. Отвечу так: важен баланс. Если в писателе сидит «очень-очень большой писатель» и «маленький-маленький, крохотный, как муравей, критик», ничего не получится. Потому что «большой писатель» придавит маленького критика, как клопа. Он начнет говорить: «Молчи, я писатель. А ты муравей. Не тебе, идиоту, знать, как писать великие романы».
— Вы сейчас графомана описали.
— Пожалуй. Или обратный сценарий: «большой-большой критик», стоит только писателю написать пару слов, кричит: «Что ты пишешь, чмо, ты кто такой? Ты самозванец! Выданные литературные потуги — посмешище». И то, и другое — ужасно. Это крайности. Нужен баланс. Гармония в мире построена на балансе. Международные отношения? Они выстроены на балансе. Выстроив такой баланс внутри себя, ты освобождаешься и получаешь право работать. Стоит критику или писателю вылезти, возвыситься, сразу натыкаешься на «кочку», спотыкаешься и сбиваешься с ритма. Временами баланс нарушается. Это «побочный эффект» творчества.
— Как уравновесить чашу весов?
— Продолжать работать. И не завидовать другим. Зависть разрушает баланс. Вот ты впал в ступор. А другие сидят и пишут. И ты думаешь: «Боже, человек уже полромана написал за пять месяцев, а я — два предложения». У каждого свой ритм. Нельзя ориентироваться на других. При этом изучение опыта других писателей — крайне полезная вещь. В одиночку продвигаться вперед сложнее. Когда я учился, я изучал творчество Гоголя. И когда увидел, что он мог по восемь недель — этому дано свидетельство Берга, который Гоголя навещал в моменты застоя — писать одно предложение, я успокоился. Я работаю над текстом, для которого собрал столько материала. Зарылся в такие дебри. Мне страшно. А потом я вспоминаю историю «Хаджи-Мурата». Лев Толстой писал эту вещь восемь лет. Он тоже зарылся в материал и изучил досконально Кавказскую войну. Изучая опыт других писателей, ты понимаешь, что ступоры и остановки неизбежны. В профессии писателя много издержек.
— Мне кажется, их больше, чем бонусов.
— Бонус только один — ты пишешь. Когда пишется, тебе хорошо. Что еще? Деньги? Признание? Это приятные дополнения, но не более. Главное в писательстве одно — когда тебе пишется, ты чувствуешь себя неуязвимым. Для времени, потому что живешь в другом временном измерении. Когда ты пишешь, ты не думаешь календарными константами — понедельник, вторник, среда, четверг и так далее — ты живешь по внутреннему времени. Ты замедляешь время. Время исчезает. Эйнштейн утверждал, что космонавт, который улетает от земли со скоростью света, живет в другом временном измерении. На земле проходят века, для него — мгновения. Вспомните фильм «Интерстеллар». Писатель — в каком-то роде космонавт. Когда ты пишешь, ты влияешь на время, психику, здоровье. Ты становишься неуязвимым даже для смерти. Ты будто смотришь на мир сквозь толстое стекло.
— А что с побочными эффектами?
— К ним относится чрезвычайная лабильность психики. Я брата-писателя узнаю по предрасположенности к резким перепадам настроения, вегетососудистой дистонии, паническим атакам, повышенной рефлексии. И так далее. Я знал одного писателя — обойдемся без имен — которому нужно было вдрызг с кем-нибудь разругаться, чтобы писалось. Кому-то пишется с дикого похмелья (видимо от стыда за содеянное). Психика у писателя расшатанная. Она такова изначально, с детства. Сильные травмы, пережитые в детстве, и сильные положительные чувства закладывают диапазон раскачивания маятника в обе стороны. Без сильного качания маятника — от чувства счастья до ощущение глубочайшей депрессии — творчества нет. Этот диапазон и определяет твой фарватер творчества. Как человек ты страдаешь, потому что ты становишься психически неустойчивой личностью.
— Вы согласны с тем, что писатель всю жизнь пишет одну книгу?
— Писатель выражает одну и ту же мелодию души. В этом задача приходящего в этот мир писателя — выразить мелодию своей души. К мелодии прикладывается все остальное — сюжеты, герои. Яркий образец выражения мелодии души — Том Вулф и его гениальный роман «Взгляни на дом свой, ангел». Вулф работал как мощнейший транслятор. Он был настолько мощно заряжен мелодией, которая в нем звучала, что всегда писал в потоке. Или возьмем Чехова. Его мелодия узнаваема. Образованный человек скажет — вот чеховские рассказы. Обманчивая внешняя бессюжетность и определяет «звучание» Чехова.
— Как бы вы расшифровали мелодию Чехова?
— Чехов писал о тончайших духовных струнах. Расшифровывал жизнь. Это сложный вопрос. Я о своем творчестве этого сказать не могу. Останавливает меня недавно гаишник. Спрашивает — где работаешь? Я ему — нигде, я писатель. Он мне — о чем пишешь? И вот этот примитивный вопрос гаишника — вопрос моей жизни. Я ему так и ответил — пишу о жизни и о смерти. О чем писал Толстой? Он писал о смерти. Толстой писал, как человек борется и побеждает или не побеждает смерть. Как человек живет в этом мире, зная, что обязательно умрет. Как находит точку опоры. Это расшифровки. Но писал Толстой о смерти. О чем писал Бунин? О мучительной прелести мира. Главная мелодия — как человек страдает от этой красоты. Каждый писатель вносит вклад в познание мира — в этом миссия. Но лучше не задавать себе вопрос, какова твоя мелодия души. Это загасит искру исследователя. И что дальше?
— Вопрос о том, можно ли настроиться на эти волны. У меня тоже сложилось ощущение, что писатель — это человек, который пишет из какого-то некоего эзотерического приемника, подкручивает там какие-то ручки и трансляция приходит ему. Вот можно ли настроиться на это вещание с верхних этажей ноосферы, и есть ли какие-то способы?
— В принципе, да. Это интересный вопрос, потому что он затрагивает тонкие, я бы даже сказал, интимные стороны писательского искусства. Я бы назвал подходящий для приема мелодии настрой «состав вдохновения». У каждого писателя он уникален. У атмосферы вдохновения сложная архитектура. Настраивает на творчество состояние покоя, когда ты знаешь, что тебе никуда не надо идти. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Когда ты обрастаешь щетиной, ходишь в грязных трениках дома, черт знает как, неряшливый, с немытой головой.
— Это вы о себе говорите или в принципе?
— Я говорю отчасти и о себе. Для меня эти вещи важны. Первая главная вещь: ощущение, что в обозримом будущем мне никуда не надо. Полный штиль. Нет, я могу выйти из дома, если захочу. Но по собственной воле. Это первое условие одиночества и покоя. Когда ты можешь побыть наедине с собой, валяться на диване. У итальянцев есть слово «фарниенте», что переводится как «ничего не делать». Я говорю о «медитативном фарниенте». Когда ты ничего не делаешь, потому что тебе ничего не надо. Второе обязательное условие — чтение. Я люблю читать в моменты ничегонеделания латинский словарь. Открывать и читать. Люблю читать Канта. Чуть в меньшей мере Шопенгауэра.
— Не выбивают ли из состояния покоя внешние обстоятельства?
— Они заглушаются. Когда тебе пишется, ты заглушаешь жизнь вокруг. Когда ты работаешь, внешняя жизнь затихает. Чем она однообразнее, тем лучше.
— Хемингуэй бы не согласился. Но это так, небольшая ремарка. А описанное вами — это ведь вхождение в транс. Замедление сердцебиения, изменение ритма дыхания, медитации.
— Верно. Вы замедляете темп своей жизни, потому что в лихорадке сложно поймать состояние, когда пишется. Во всяком случае мне. И вот, как адепт восточных практик, ты замедляешь эмоциональную жизнь. И впадаешь в транс. Раз уж мы говорим о восточных практиках — ты соединяешься с Пурушей (согласно индуистской мифологии, существо, из тела которого создана Вселенная — прим. ред.). Он в каждом. Пуруша невозмутим. Почему? Потому что знает, что «жизнь» — временная оболочка. Жизнь не подвержена ни времени, ни событиям, ни эмоциям. Она течет. Как река. Без начала и конца. Когда ты пишешь — личная жизнь заглушается.
У меня есть повесть «По следам дворцового литавриста», где исследуются две противоположности — «сновидческая реальность» и «реальная реальность». В чем феномен сна? В том, что когда ты там, в сновидении, тебя не волнуют события твоей повседневной жизни, которой ты живешь. Тебя волнуют события той жизни, которую ты проживаешь. Вот почему, когда ты пишешь, эмоции «там» бьют через край. Все переворачивается с ног на голову.
— У вас такое бывало?
— Да. Я писал «Дело об инженерском городе», повесть цикла «Персона вне достоверности». Сделал паузу. Вышел на прогулку с собакой, которую безумно люблю. Единственное биологическое существо, которому я разрешаю заходить в кабинет, когда пишу. Вот какая это любовь. Это важно для понимания дальнейших деталей. Так вот я вышел в магазин — за сигаретами. Привязал собаку у входа. На кассе, когда расплачивался, в голове зазвучали фразы. Я в бессознательном состоянии выскочил из магазина и помчался домой. Работал до позднего вечера. И вот уже ближе к полуночи, незапертая дверь раскрывается и в квартиру влетает собака. Грязная, без ошейника. Понимаете, я отключился в магазине. И забыл, что пришел не один. Я запомнил этот случай — он проиллюстрировал издержки писательской работы. Внешний мир перестает существовать, когда ты впадаешь в транс.
— Глубина транса и отличает истинное творчество от словесной архитектуры?
— Писатель владеет техниками письма. Но также обучен технике владения собственным духом, своей души. Писатель — недопроявленная фотография. Ты сидишь в растворе своей души и допроявляешь, допроявляешь, допроявляешь. Если тебе на фотографии ясна каждая деталь до последней черточки — где тут творчество? Ты просто выстраиваешь словесные конструкции.
— Стивен Кинг сказал, что он — археолог, который ползает с кисточкой по полю вдохновения и ищет «окаменелости». И когда он находит очередной фрагмент текста у себя в сознании, он не знает, что нашел — черепок разбитой вазы или утерянный Вавилон. И чем дольше он сидит с кисточкой, отметая песок сомнений, тем отчетливее проявляется, говоря вашими словами, фотография. Вы пишете, судя по всему, так же?
— Примерно так, да. Первая фаза — состояние замысла, в котором ты пребываешь какое-то время. Видишь вспышку. Происходит некий взрыв. И вдруг вспышка застывает.
— Как рождение или смерть новой звезды…
— Да. И в этот момент тебе легко двигаться вперед. Ты видишь текст, который тебе предстоит написать. Умирают все — внутренний критик, внутренний писатель. Остается только вспышка. Ты паришь в вакууме — как космонавт, о котором я сказал выше, — и это состояние невесомости дарит счастье. Параллельно приходят интонации, герои, сюжет. У меня происходит вот так. Я будто бы получаю ключ истории. Записываю первое предложение. И в этом первом предложении, как в коконе, хранится вселенная текста. Когда ты зафиксировал это начало, дальше начинается работа. Эйфории уже нет. Уровень счастья как бы понижается на ступень. Счастье зависит от того, как тебе работается (или не работается).
— Эти вспышки поддаются контролю?
— Нет, к сожалению. Идеи часто приходят из чепухи. Но когда ты испытываешь такую вспышку сознания — это абсолютное счастье.
— Вы сказали однажды, что счастье — это соразмерность пришедшего замысла навыкам писателя.
— Счастливый замысел тот, что соразмерен с писательскими умениям в текущий момент. Приведу в пример Гоголя. Первый том «Мертвых душ» — замысел, соразмерный гению Гоголя. А второй том… В процессе работы началась борьба между творцом и творением, когда творец нагромоздил над творением невообразимые конструкции. Гоголь говорил: первый том «Мертвых душ» — это крыльцо. А потом появится дворец. Выяснилось, что крыльцо было настоящим, а дворец рухнул. Под обломками Гоголь, собственно, и погиб. Я об этом пишу в «Гоголиане». Штука в том, что писателю с опытом — так устроено во вселенной — приходят замыслы, соразмерные текущему опыту. Ведь нет ничего страшнее, чем осознание неподъемности замысла, который у тебя возник. Некоторые не выдерживают. Но с другой стороны — замысел часто выводит тебя на новый уровень, и после окончания работы ты становишься другим человеком.
— Вы носите с собой записную книжку, делаете заметки?
— Листочки, да. Дома ждут своего часа кусочки написанных фрагментов. Эдакие замороженные эмбриончики. Самое большое время между написанным первым предложением и уже готовой вещью — тридцать пять лет. Сразу после «Двора прадеда Гриши» я написал предложение, описывающее старика, который сидит в дупле старой ивы и грезит, что его ноги на другой стороне реки. Я записал пару строк. Дальше не двинулось. Два года назад я достал истлевшие уже листы. И стал пересматривать. Мне тогда не писалось, и я решил — пересмотрю старые записи. Так вот, смотрю я на этого старика и говорю себе: это же элементарно. И за два месяца написал серию миниатюр «Фигуры Дона». Видите — тридцать пять лет. Большая, согласитесь, дистанция.
— А влияют ли на ваше творчество «внешние факторы»?
— Я написал цикл «Языки нимродовой башни». Миниатюры о языках, которые возникли после разрушения Вавилонской башни. Виновники — редакторы Esquire, которые позвонили и спросили, могу ли я написать рассказ в 72 слова. Я удивился — почему 72? Они говорят: «Никто не знает, от балды придумали». Но я согласился. Интересная, шахматная задача. Я решил писать не лажу, а историю с сюжетом. И за три дня — было непросто, признаюсь — написал рассказ «Язык Народа Йон». Пять строк. Сюжет такой: жил такой народ йон, который при строительстве Вавилонской башни ничего не делал, только пел песни. Когда башня рухнула, Господь наделил народы языками, а йонцам достался такой язык из пяти слов: «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Я написал текст и вдруг за ним выскочил еще один вагончик. А потом еще один. А потом появился паровозик. Так появилась серия, переведенная на несколько языков. Но не случись звонка из Esquire, возможно, не было бы этой серии.
Язык народа йон
Из всех народов, строивших вавилонскую башню, народец йон был самый безалаберный. Йонцы ничего не делали на строительстве. Только песни пели — мол, песня строить и жить помогает. Когда же Всевышний, пресекая затею строителей, сотворил множество языков (раньше говорили на одном), йонцам достался такой, в котором было пять слов — «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Но йонцы не унывали — сложили на своем языке тысячи песен, стихов; создали эпос. Существует на йонском философский трактат: «Жирафозаусенчатая вечность».
Владислав Отрошенко
Владислав Отрошенко
— Сразу напрашивается вопрос о случайности и предопределенности. Как вы считаете, мы выбираем что-то в этой жизни или это лишь иллюзия выбора?
— Когда я работал на Гостелерадио, я проклинал шизофренический стиль подачи материалов. Проклинал работу — из 10 страниц текста сделать 10 строк. Но благодаря этой работе я овладел синтаксисом. Я понял, что русский синтаксис обладает колоссальной способностью к сцеплению. Ты можешь скреплять короткие предложения, короткие фразы и делать это так, что разорвать не сможешь. Крепче бетона. Предопределенность? Кто знает. Мы не знаем, чем все обернется. Может об этом знает кто-то там наверху.
— Присущий вам синтаксис — продолжение вашей мелодии души?
— Не совсем. Это инструмент. Балалайка, на которой ты играешь мелодию. Мелодия — она неуловима. Средства ее фиксации — инструменты. Сюжет — инструмент. Язык — инструмент. Синтаксис — инструмент, эдакий бозон Хиггса, который никто не может найти, но который все скрепляет и образует из всего некую структуру. А мелодия — это… Святой дух. По-другому и не скажешь. Мелодию нельзя объяснить.
— Журналистика помогла вам стать писателем? Как Хемингуэю, который тоже начинал репортером в газете «Стар».
— Да! Причем жесткая, жесточайшая журналистика. Чем жестче журналистика, тем меньше она затрагивает струны души. И одновременно ты учишься писать и эти струны лучше чувствовать. Если ты предрасположен к писательству.
— И как же понять, что ты можешь стать писателем?
Если ты упорно стремишься к цели, то дух писательства в тебе живет. Это внутренняя потребность. Лакмусовая бумажка — то, как тебе НЕ пишется. Вот что главное. Если тебе плохо, когда не пишется, значит ты писатель.
— Нет ли у вас ощущения, что вы зашли в писательство с черного хода, с боковой двери, и работа на Гостелерадио стала необходимым условием для того, чтобы вам состояться как писателю?
— Это не совсем правильная постановка вопроса. Писательство — не пространство, в которое ты входишь. Это то пространство, которое из тебя начинает выходить.
— Я хотел сказать, что возможно именно журналистская работа создала внутри вас необходимый микроклимат, чтобы «пространство начало из тебя выходить».
— Возможно. Но она не стала определяющим фактором. Что бы случилось, если бы я не стал журналистом? Стал бы я писателем? У писателя внутри сидит зерно. И как оно проклюнется — этого никто не знает. У меня получилось так, как получилось. Я не абсолютизирую свой путь, но мне кажется так: трансформация журналиста в писатели — верный путь. Вы сами упомянули Эрнеста Хемингуэя. Есть и другие примеры.
— Какими были ваши ощущения, когда вы взяли в руки книгу, только вышедшую из типографии?
— Первая серьезная публикация — цикл рассказов «Двор прадеда Гриши» — вышла гигантским тиражом в журнале «Студенческий меридиан». Я потом получил полтора мешка писем от читателей. И это было удивительно, конечно. Первая книга — «Персона вне достоверности» — впервые вышла в 97-м году в Италии в издательстве «Воланд». Ощущения? Мне было дико приятно. Если писатель говорит, что не испытывает в такие моменты душевного подъема, это ложь. Однако издание книги не должно превратиться в самоцель. Каждого писателя я призываю прочесть текст Ролана Барта «Писатели и пишущие» и запомнить на всю жизнь. В тексте дается ответ на вопрос, в чем разница между писателем и пишущим. Если кратко, Барт выводит такую формулу: «писать» — это непереходный глагол. Нельзя сказать — «писать что», «для чего», «зачем», и так далее. Писать — это просто писать. Пишущий отличается от писателя тем, что ставит себе некую цель. Это если кратко.
— А что насчет амбиций. Они важны?
— Здоровая доля тщеславия и честолюбия необходима. Зафиксированный эпизод: Бунин пришел к Толстому в гости и случайно застал Льва Николаевича за перечитыванием только что опубликованной вещи. Бунин позже сказал: даже гений Толстой не был свободен от этого сладкого чувства: посмотреть, как выглядит опубликованная вещь.
— Расшифруйте, пожалуйста, вашу метафору: писатели-пауки и писатели-пчелы.
— Я считаю, что писатели делятся на две группы по способу сотворения образов. Писатели-пауки ткут ткань образа из себя (опираясь на собственные мироощущения), писатели-пчелы собирают образы, как пыльцу. Слушают, наблюдают, анализируют, переосмысливают. И те, и другие делятся еще на две группы: романисты и не романисты. В чем отличие? Первые работают не спеша. Их маятник раскачивается спокойно, а работать романисты могут в любой точке его зависания. Второй тип писателей — гоголевский. Не романисты, работающие в высшей точке вдохновения. Николай Васильевич не признавал таких понятий как «писать поступательным ежедневным трудом». У меня собраны доказательства. Я привожу их в книге «Гоголиана». Гоголя спросили, зачем он сжег пятилетний труд (речь о втором томе «Мертвых душ»). На что писатель ответил, что текст напишется снова за несколько недель, если придет урочный час. Гоголь жил с этой верой, и писал на высшей точке. Поэтому для него писательство было крайне разрушительной, мучительной, расшатывающей психику работой.
— Расскажите, пожалуйста о премии «Ясная поляна», лауреатом, который вы стали и в членах жюри которой состоите.
— У нас все «по гамбургскому счету». Нам все равно, насколько известен или неизвестен автор. Молод он или стар. Начинающий или продолжающий. Мы оцениваем текст.
— Как выдвинуться на премию?
— Через сайт «Ясной поляны». У нас демократичная система. Заявка в свободной форме. Тебя может выдвинуть издатель, лауреат премии, литературный печатный орган и так далее. Список внушительный. Единственное — необходимы экземпляры книги. Чтобы ее прочли члены жюри. Скажу так: для начинающих писателей наша премия наиболее благоприятная. Я не хочу говорить плохо о других, каждая премия по-своему хороша. Но вот в чем наше отличие: мы принимаем вещи, написанные начиная с двухтысячного года.
— И чтобы подвести некий итог беседе: какой главный совет вы дадите не изданным пока авторам?
— Первое — прислушаться и услышать мелодию своей души. Второе — найти равновесие, паритет. Чтобы начать писать, важно сделать первые шаги. И чтобы тебя не подавил внутренний критик. И третье, последнее — не бояться провалов. И верить в себя.
— Когда я работал на Гостелерадио, я проклинал шизофренический стиль подачи материалов. Проклинал работу — из 10 страниц текста сделать 10 строк. Но благодаря этой работе я овладел синтаксисом. Я понял, что русский синтаксис обладает колоссальной способностью к сцеплению. Ты можешь скреплять короткие предложения, короткие фразы и делать это так, что разорвать не сможешь. Крепче бетона. Предопределенность? Кто знает. Мы не знаем, чем все обернется. Может об этом знает кто-то там наверху.
— Присущий вам синтаксис — продолжение вашей мелодии души?
— Не совсем. Это инструмент. Балалайка, на которой ты играешь мелодию. Мелодия — она неуловима. Средства ее фиксации — инструменты. Сюжет — инструмент. Язык — инструмент. Синтаксис — инструмент, эдакий бозон Хиггса, который никто не может найти, но который все скрепляет и образует из всего некую структуру. А мелодия — это… Святой дух. По-другому и не скажешь. Мелодию нельзя объяснить.
— Журналистика помогла вам стать писателем? Как Хемингуэю, который тоже начинал репортером в газете «Стар».
— Да! Причем жесткая, жесточайшая журналистика. Чем жестче журналистика, тем меньше она затрагивает струны души. И одновременно ты учишься писать и эти струны лучше чувствовать. Если ты предрасположен к писательству.
— И как же понять, что ты можешь стать писателем?
Если ты упорно стремишься к цели, то дух писательства в тебе живет. Это внутренняя потребность. Лакмусовая бумажка — то, как тебе НЕ пишется. Вот что главное. Если тебе плохо, когда не пишется, значит ты писатель.
— Нет ли у вас ощущения, что вы зашли в писательство с черного хода, с боковой двери, и работа на Гостелерадио стала необходимым условием для того, чтобы вам состояться как писателю?
— Это не совсем правильная постановка вопроса. Писательство — не пространство, в которое ты входишь. Это то пространство, которое из тебя начинает выходить.
— Я хотел сказать, что возможно именно журналистская работа создала внутри вас необходимый микроклимат, чтобы «пространство начало из тебя выходить».
— Возможно. Но она не стала определяющим фактором. Что бы случилось, если бы я не стал журналистом? Стал бы я писателем? У писателя внутри сидит зерно. И как оно проклюнется — этого никто не знает. У меня получилось так, как получилось. Я не абсолютизирую свой путь, но мне кажется так: трансформация журналиста в писатели — верный путь. Вы сами упомянули Эрнеста Хемингуэя. Есть и другие примеры.
— Какими были ваши ощущения, когда вы взяли в руки книгу, только вышедшую из типографии?
— Первая серьезная публикация — цикл рассказов «Двор прадеда Гриши» — вышла гигантским тиражом в журнале «Студенческий меридиан». Я потом получил полтора мешка писем от читателей. И это было удивительно, конечно. Первая книга — «Персона вне достоверности» — впервые вышла в 97-м году в Италии в издательстве «Воланд». Ощущения? Мне было дико приятно. Если писатель говорит, что не испытывает в такие моменты душевного подъема, это ложь. Однако издание книги не должно превратиться в самоцель. Каждого писателя я призываю прочесть текст Ролана Барта «Писатели и пишущие» и запомнить на всю жизнь. В тексте дается ответ на вопрос, в чем разница между писателем и пишущим. Если кратко, Барт выводит такую формулу: «писать» — это непереходный глагол. Нельзя сказать — «писать что», «для чего», «зачем», и так далее. Писать — это просто писать. Пишущий отличается от писателя тем, что ставит себе некую цель. Это если кратко.
— А что насчет амбиций. Они важны?
— Здоровая доля тщеславия и честолюбия необходима. Зафиксированный эпизод: Бунин пришел к Толстому в гости и случайно застал Льва Николаевича за перечитыванием только что опубликованной вещи. Бунин позже сказал: даже гений Толстой не был свободен от этого сладкого чувства: посмотреть, как выглядит опубликованная вещь.
— Расшифруйте, пожалуйста, вашу метафору: писатели-пауки и писатели-пчелы.
— Я считаю, что писатели делятся на две группы по способу сотворения образов. Писатели-пауки ткут ткань образа из себя (опираясь на собственные мироощущения), писатели-пчелы собирают образы, как пыльцу. Слушают, наблюдают, анализируют, переосмысливают. И те, и другие делятся еще на две группы: романисты и не романисты. В чем отличие? Первые работают не спеша. Их маятник раскачивается спокойно, а работать романисты могут в любой точке его зависания. Второй тип писателей — гоголевский. Не романисты, работающие в высшей точке вдохновения. Николай Васильевич не признавал таких понятий как «писать поступательным ежедневным трудом». У меня собраны доказательства. Я привожу их в книге «Гоголиана». Гоголя спросили, зачем он сжег пятилетний труд (речь о втором томе «Мертвых душ»). На что писатель ответил, что текст напишется снова за несколько недель, если придет урочный час. Гоголь жил с этой верой, и писал на высшей точке. Поэтому для него писательство было крайне разрушительной, мучительной, расшатывающей психику работой.
— Расскажите, пожалуйста о премии «Ясная поляна», лауреатом, который вы стали и в членах жюри которой состоите.
— У нас все «по гамбургскому счету». Нам все равно, насколько известен или неизвестен автор. Молод он или стар. Начинающий или продолжающий. Мы оцениваем текст.
— Как выдвинуться на премию?
— Через сайт «Ясной поляны». У нас демократичная система. Заявка в свободной форме. Тебя может выдвинуть издатель, лауреат премии, литературный печатный орган и так далее. Список внушительный. Единственное — необходимы экземпляры книги. Чтобы ее прочли члены жюри. Скажу так: для начинающих писателей наша премия наиболее благоприятная. Я не хочу говорить плохо о других, каждая премия по-своему хороша. Но вот в чем наше отличие: мы принимаем вещи, написанные начиная с двухтысячного года.
— И чтобы подвести некий итог беседе: какой главный совет вы дадите не изданным пока авторам?
— Первое — прислушаться и услышать мелодию своей души. Второе — найти равновесие, паритет. Чтобы начать писать, важно сделать первые шаги. И чтобы тебя не подавил внутренний критик. И третье, последнее — не бояться провалов. И верить в себя.
Об авторе
Владислав Отрошенко. Биографическая справка
Российский писатель, эссеист. В 2004 году за книгу «Персона вне достоверности», опубликованную в Риме на итальянском языке (переводное название"Testimonianze inattendibili"), Владиславу Отрошенко присуждена одна из самых престижных литературных премий Италии Гринцане Кавур Лауреат премии Правительства России (2014 год). Лауреат "Ясной поляны" (2003 год) за книгу "Гоголиана и другие истории". Произведения писателя переведены на английский, французский, итальянский, немецкий, китайский, венгерский, литовский, финский, сербский, словацкий, армянский, эстонский языки.
